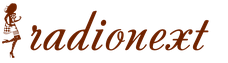Семья паолы волковой. На сколько хватает души
Оказывается в интернете есть сайт, посвященный памяти Паолы Дмитриевны Волковой (1930-2013): www.paolavolkova.ru . На нем собраны видеозаписи с ее участием, материалы о ее жизни и творчестве. Также на сайте даны ссылки на сообщества в социальных сетях, посвященные Волковой.
Паола Волкова - советский и российский искусствовед, историк культуры, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). В 1960—1987 годах преподавала во ВГИКе курсы всеобщей истории искусств и материальной культуры. С 1979 года преподавала на Высших курсах сценаристов и режиссёров культурологию и дисциплину «Изобразительное решение фильма». В 1970—1980-х годах организовывала лекции Мераба Мамардашвили, Натана Эйдельмана, Георгия Гачева, Льва Гумилёва и других мыслителей.
Автор более 50 публикаций в журналах, книгах, периодической печати по вопросам современного искусства и отдельным проблемам, связанным с творчеством Андрея Тарковского. С 1989 года — директор Фонда Андрея Тарковского в Москве (ныне не существует). За время своей работы Фонд провёл больше двадцати фестивалей и выставок в России и за рубежом, был инициатором и одним из создателей Дома Андрея Тарковского на родине режиссёра в Юрьевце; установил надгробье на могиле Андрея на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Из описания на главной странице сайта: "На ее лекции во ВГИКЕ по истории искусства было невозможно пробиться, и студенты ловили каждое слово Паолы Дмитриевны. Режиссер Вадим Юсупович Абдрашитов так высказывался об этих занятиях: «Она рассказывала о том, что такое искусство и культура для жизни человека, что это - не просто центральная статья какого-то расхода бюджета. Это, как будто, и есть сама жизнь». Киновед Кирилл Эмильевич Разлогов рассказывал: «Паола Дмитриевна была человеком-легендой. Легендой во ВГИКе, где она преподавала, легендой перестройки, когда она вышла на широкий простор нашей культуры, легендой, когда она воевала за память Тарковского, с которым была близко знакома, вокруг наследия которого разгорались нешуточные бои». Фотограф, журналист и писатель Юрий Михайлович Рост уверен, что это - «женщина совершенно выдающаяся, человек, который дал культурную жизнь огромному количеству кинематографистов, человек энциклопедических знаний, обаяния…» Режиссер Александр Наумович Митта уверяет: «Когда она рассказывала об искусстве, оно как будто превращалось в какой-то бриллиант. Ее любили все, вы знаете. В каждом деле есть кто-то лучше других. Генерал этого дела. Вот она в своем деле была генерал». Паола Волкова знала всех великих художников, актеров, режиссеров - всех творцов той или иной эпохи, словно жила в это время, и сама была их музой. И ей верили, что все так и было".
А вот что писал о Паоле Волковой в книге "Несвятые святые" епископ Тихон Шевкунов: "Историю зарубежного искусства у нас преподавала Паола Дмитриевна Волкова. Читала она очень интересно, но по каким-то причинам, возможно потому, что сама была человеком ищущим, рассказывала нам многое о своих личных духовных и мистических экспериментах. Например, лекцию или две она посвятила древней китайской книге гаданий «И-Цзин». Паола даже приносила в аудиторию сандаловые и бамбуковые палочки и учила нас пользоваться ими, чтобы заглянуть в будущее. Одно из занятий касалось темы, известной лишь узким специалистам: многолетним исследованиям по спиритизму великих русских ученых Д. И. Менделеева и В. И. Вернадского. И хотя Паола честно предупредила, что увлечение подобного рода опытами чревато самыми непредсказуемыми последствиями, мы со всей юношеской любознательностью устремились в эти таинственные, захватывающие сферы".
Паола Волкова – российский искусствовед и историк культуры. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Всероссийскую популярность Паола Волкова получила после выхода цикла «Мост над бездной» на телеканале "Культура", где она читала лекции об искусстве общедоступным языком. За свою жизнь женщина написала немалое количество статей, сценариев, рецензий и книг.
Женщина так подробно рассказывала о жизни великих художников и деятелей культуры, но так ни разу и не посвятила зрителей в собственную жизнь. О ее детстве, родителях ничего не известно. Будто биография ее берет начало с поступления в Московский государственный университет. Паола окончила факультет по специальности «историк искусства» в 1953 году.

Читатели и зрители считали, что имя «Паола» женщина сама себе выдумала, но, как оказалось, получила она столь оригинальное имя при рождении. Журналистка , которая дружила с Волковой, рассказала, что сама Паола объяснила это тем, что в роду ее семьи были итальянцы. По традиции из поколения в поколение мальчика называли Павлом, а девочку – Паолой. Правда, существует и иная версия, будто мама Паолы во время беременности читала книгу, в которой ей приглянулось имя Паола.
Искусство
С 1960 года Паола Волкова стала преподавать во ВГИКе, вела курсы всеобщей истории искусств и материальной культуры. Волкова была не намного старше своих студентов, но умела по-настоящему вовлечь в объясняемую ею тему. Паола покоряла всех веселой открытостью и невероятными знаниями. У женщины была феноменальная память, она с легкостью оперировала историческими фактами.

В 1979 году Паола Дмитриевна стала преподавать изобразительное решение фильма на курсах для режиссеров и сценаристов. Она работала с популярными кинорежиссерами и художниками-постановщиками: , Вадимом Абдрашитовым, Павлом Каплевичем. В 1991 году Волкова была награждена орденом «Заслуженный деятель искусства РСФСР».
Паола Волкова была ученицей философов Мераба Мамардашвили и . Позже она вела переговоры со ВГИКом, чтобы организовать для студентов лекции Мамардашвили. Она не раз говорила, что Мераб был исключительным носителем целого мира культуры. Стоит отметить и дружбу Паолы с великим кинорежиссером и поэтом Тонино Гуэррой. Волкова была составителем изданных в России книг Гуэрры и автором вступительных статей к ним.

Паола Волкова – крупнейший эксперт в области творчества , она написала несколько книг и десятки публикаций, посвященных режиссеру. С 1989 года Паола Дмитриевна Волкова занимала пост директора Фонда Андрея Тарковского в Москве. Волкова вместе с Фондом организовала свыше 20 выставок и фестивалей в России и за границей.
На родине Тарковского по ее инициативе был создан дом-музей его имени. Также Фонд установил надгробную плиту на его могиле в Париже. Паолу Волкову постоянно приглашали для чтения лекций, посвященных жизни и творчеству режиссера. Сегодня Фонд не действует.

В 2011 году на канале «Культура» вышла передача Паолы Волковой «Мост над бездной». За 2 года было отснято 12 серий, женщина выступала и автором, и телеведущей программы. Она рассказывала об искусстве доступным языком, раскрывала тайные знаки и послания, скрытые в великих картинах. Цикл пользовался успехом у зрителей, а Паола Волкова получила всероссийскую популярность. Волкову смотрели, слушали, читали.
При жизни была издана лишь одна книга – первая книга из цикла «Мост через бездну». Она сразу же стала бестселлером. Паоле удавалось заинтересовать не только человека, интересующегося искусством, но и крайне далекого от него.

Паола Волкова была исполнена планами и новыми начинаниями. В 2012 году она читала лекцию об искусстве эпохи возрождения в "Сколково". Женщина много путешествовала и накануне смерти была в Риме. Она скончалась через 3 дня после возвращения. Телевизионный цикл «Мост над бездной» так и не был окончен.
Личная жизнь
Паола Дмитриевна Волкова была дважды замужем. О первом ее муже ничего не известно. Вторым ее супругом стал Вадим Владимирович Гогосов – советский и российский ученый, заслуженный деятель науки.

В книге «PAOLA. Алфавит Паолы Волковой» женщина писала, что знакомство с Вадимом произошло случайно, но по воле судьбе. Она пришла в библиотеку, но впервые поднялась по боковой лестнице. А мужчина по этой запасной лестнице в этот момент спускался. Так и столкнулись. Она считала, что случайностей не бывает.
У них родилось двое детей – дочь Маша и сын Владимир. Пережила Паола супруга на 11 лет.
Смерть
Скончалась Паола Дмитриевна в Москве 15 марта 2013 года. Похоронили ее на Донском кладбище. Но часть праха по просьбе самой Волковой была развеяна в ее любимом городе – Венеции. Она не раз говорила, что чувствует неразрывную связь с Венецией. О прощании рассказала жена кинорежиссера Тонино Гуэрра – Лора.

В Венецию приехали дети Паолы и их семьи, ее друзья. В завещании она хотела, чтобы ее развеяли над морем, поэтому они плыли по каналам, а увидев остров Сант-Андреа в цветущих вишнях, решили, что здесь и найдет покой Паола Волкова.
Библиография
- 2002 – «Арсений и Андрей Тарковские»
- 2002 – «Арсений Тарковский. Жизнь семьи и история рода»
- 2009 – «Мост над бездной. Книга первая»
- 2012 – «Леонид Завальнюк. Другое измерение»
- 2013 – «Мост над бездной. Книга вторая»
- 2013 – «Мост над бездной. Книга третья»
- 2013 – «Цена Nostos– жизнь»
- 2014 – «Мост над бездной. Книга четвертая»
- 2014 – «Мост над бездной. Книга пятая»
- 2014 – «PAOLA. Алфавит Паолы Волковой. Портреты. Книга 1»
- 2015 – «PAOLA. Алфавит Паолы Волковой Портреты. Книга 2»
- 2015 – «PAOLA. Алфавит Паолы Волковой Портреты. Книга 3»
- 2015 – «Мост над бездной. Книга шестая. Часть 1»
- 2015 – «Мост над бездной. Книга шестая. Часть 2»
- 2015 – «Мост над бездной. В пространстве христианской культуры»
- 2015 – «Мост над бездной. Мистики и гуманисты»
- 2016 – «Мост над бездной. Великие мастера»
М. ПЕШКОВА: На предстоящей неделе сорок дней, как ушла из жизни профессор ВГИКА, искусствовед Паола Дмитревна Волкова. И не только студенты, но и те, кто занимались на Высших курсах сценаристов и режиссеров были очарованы Паолой Волковой, энциклопедистом. Памяти Паолы Дмитриевны. Вспоминают ведущие эфира Светлана Сорокина и Юрий Кобаладзе. Сколько лет, Светлана, вы были знакомы с Паолой Дмитриевной?
С. СОРОКИНА: Я так понимаю, что около 18 лет, как я прикидывала, была знакома. Действительно, как-то сдружились, что бывает не так часто, когда уже я была взрослым человеком. Паола Дмитриевна так уже очень взрослым человеком. Я не верила в то, что может быть такая дружба, при которой мы созванивались буквально каждый день. Знали друг про друга если не все, так многое. Такого поверенного и умного собеседника и друга, как Паола Дмитриевна, как ее просто звали Паолочка. Такого, наверное, мне уже бог не даст.
М. ПЕШКОВА: Откуда произошло это имя у русской девочки?
С. СОРОКИНА: Я слышала несколько версий этого имени. Одна из версий была самой Паолой мне предложена, когда я ее спросила про имя. Она сказала, что у них кто-то в роду, предки были из Италии. Нужно было из поколения в поколение кого-то называть Павлом, если мальчик, и Паола, если девочка. Уже позже ее дочь Маша говорила, что она знает другую версию. Когда мама ждала Паолу, она читала книгу какую-то, где была героиня с именем Паола, поэтому назвала. Потом еще одна версия, которую другие друзья рассказывали. Вроде бы ждали мальчика, хотели назвать Павлом, а родилась девочка. Я не знаю чему верить. История запутанная.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Какая бы ни была легенда, удивительно имя подходило. Я был убежден, что она сама себе выдумала это имя, чтобы соответствовать образу, соответствовать искусству Италии, картинам.
С. СОРОКИНА: Это правда. Имя ей очень подходило.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Очень подходило. Именно Паола. Ничего другого. Никогда не возникало сомнений, что она не могла быть Таней.
М. ПЕШКОВА: А как у вас состоялось знакомство?
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Вы знаете, сейчас Света сказала, что 18 лет. Я, конечно, не 18 лет, но лет 16. Благодаря Свете. Она сама пусть расскажет эту захватывающую историю.
С. СОРОКИНА: История забавная, поскольку Паолочка была из среды диссидентской и свободолюбивой. Училась у таких людей, дружила с такими людьми. Там один перечень Эфрос, Мамардашвили и Акимов, замечательные люди, которые на нее повлияли. Она была такой диссидент. Однажды мы ехали по городу, проезжали мимо особняка на Остоженке. Особнячок без вывесок, но там располагалась пресс-служба внешней разведки. А Юрий Георгиевич в те времена возглавлял пресс-службу внешней разведки. Особнячок очаровательный. Я-то про него знала. Поскольку мы ехали мимо на машине, я везла Паолу. Мы куда-то вместе ходили. Я сказала: «Паолочка, вы не хотите ли зайти в гости к одному моему хорошему товарищу?» Она говорит, что интересно, куда, что. Она очень любознательна была. И очень была легка, подвижна. Т.е. можно было ее легко подбить на любые походы и авантюры. Мы зашли в особнячок. Было очень мило. Повторяю: вывесок никаких нет. Мы зашли в особнячок, был поздник вечер. Юрий Георгиевич оказался на месте. Было замечательно красиво в этом особняке. Юрий Георгиевич провел ее, показал эти отреставрированные помещения. Потом он включил у себя в кабинете заставленную какими-то красивыми вещами музыку Верди, как сейчас помню. Из ближайшего грузинского ресторана принесли «хачапури», Юра открыл бутылку грузинского вина. Мы дивно сидели, трепались, в какой-то момент, когда Юра отошел, Паолочка спросила меня: «Светочка, а где мы находимся? Это что же за место, что это за человек, этот Юрочка?» Я, скрывая чертиков в глазах, сказала, что мы находимся в логове КГБ, а Юрий Георгиевич генерал КГБ. Что было с Паолой!
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Но, тем не менее, она меня полюбила. Она простила.
С. СОРОКИНА: А Юра еще добавил. Он достал удостоверение генерала. Она встала, сказала, что этого не может быть. Вы меня разыгрываете. Это полная чушь. Юра добил Паолу, достал удостоверение генерала КГБ. Она Юру полюбила, как-то его всегда выделяла среди всех. В числе справедливых, в числе исключений из правил, которые всегда бывают.
М. ПЕШКОВА: В чем проявлялось ее диссидентство? Оно имело какое-то выражение?
С. СОРОКИНА: В самостоятельности. У нее всегда на любое событие, на любое явление было абсолютно самостоятельное, не подверженное влиянию мнение. Я так понимаю, что это не благо приобретенное, а это всегда было. У меня такое ощущение. Все годы, что мы знакомы, она всегда была такой.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Потрясающую историю рассказал Юра Рост, что он видел фотографию во младенчестве. Ребенок 8-10 месяцев, сказать, что из него получится, на кого он похож, это невозможно, но Юра говорит, что она и в 8 месяцев, и в 20-30-40 лет она была все той же Паолой. Она никак не менялась. Это удивительная вещь.
С. СОРОКИНА: Я видела эту фотографию. Она на себя похожа уже тогда.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: В 8 месяцев она уже похожа на позднюю Паолу.
С. СОРОКИНА: С выражением лица.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: У нее же глаза были посажены как-то не очень прямо. Такой чертик у них был. Она такая была вообще абсолютно без возраста. Я сразу поверил Юре, что во младенчестве, что в зрелые годы один и тот же человек. Такой очень веселый, лукавый, со смешинкой в глазах.
С. СОРОКИНА: Придумщица. И очень самостоятельная в суждениях всегда.
М. ПЕШКОВА: Паолу Дмитриевну можно было встретить на разных научных конференциях. Она всегда была окружена детьми. Вот это меня всегда удивляло. Т.е. ее всегда кто-то сопровождал, кто-то с ней беседовал. Чувство одиночества, мне кажется, она никогда в жизни не испытывала. Она была общительной?
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Она же была преподавателем у среднего поколения российских кинематографистов.
С. СОРОКИНА: Да, у нескольких поколений, если на то пошло. Она очень рано начала преподавать.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: И все ее уважали, все ее знали, все ее любили. Всем она давала советы, все у нее просили советы.
С. СОРОКИНА: Интересно, когда у нее я дома, например. Приходила к ней в гости, а у нее был тот, на мой взгляд, редкий в наши дни московский дом, куда можно было просто мимо проезжая позвонить в дверь. Если она дома, она была всегда рада. Открытый дом. Во-первых, к ней все время кто-то приходил, во-вторых, все время звонил телефон. Я к этому привыкла, что это так. Но задним числом удивляюсь, какая она была всегда востребованная, какая вовлеченная в дела друзей. Я не знаю про одиночество. Дело в том, что у Паолы был счастливейший дар, которым, кстати, Юрий Георгиевич тоже обладает. Это любовь к жизни как таковой. Она просто радовалась каждому дарованному дню. И ей с самой собой никогда не было скучно.
М. ПЕШКОВА: Она очень много работала?
С. СОРОКИНА: Да.
М. ПЕШКОВА: А в чем ее работа заключалась? Ведь я не говорю о возрасте Паолы Дмитриевны, я говорю, что уже о той самой зрелости, о которой мы говорим. Уже многих людей тянет на покой. Тянет на подведение итогов. Такого чувства у нее не было?
С. СОРОКИНА: Такого не было. У нее всегда было планов громадье. Всегда было полно планов.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Накануне до кончины она же ездила в Италию.
С. СОРОКИНА: Она в Рим ездила. Приехала и умерла. А до этого гульнула в Риме. У нее было очень много планов и работ. Помимо того, что продолжала преподавать на Высших режиссерских курсах, читала там лекции, помимо того, что она читала свои лекции на канале « Культура», причем в эфир выходило полчаса. На самом деле она по два часа рассказывала о том или ином художнике или картине. Кстати говоря, шесть лекций не вышли еще в эфир. Их обещают дать осенью. Будет тогда законченный цикл. 18 лекций, которые она успела прочитать. Помимо этого она писала и редактировала книги. У нее же есть несколько книг о Тарковских, о Завальнюке, Тонино Гуэрра. Кроме этого она написала свою книжку« Мост над бездной».
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Первый том только успел выйти.
С. СОРОКИНА Уже заключила с издательством договор на второй том, но вот не успела. Тоже планировала. Она мечтала написать книгу, за которую никак не могла приняться – Прощай, Садовое Кольцо. Именно о тех людях, с которыми ее свела судьба, кого она любила, чьей дружбой дорожила. Ужасно жалко. Сейчас дети пытаются разобрать архивы. Только какие-то обрывочные записи. Не успела она это сделать.
М. ПЕШКОВА: Какой она была как рассказчик?
С. СОРОКИНА: Феерический.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Очень забавный. Всегда такое было, то ли она правду говорит, то ли что-то выдумывает. У нее такая была очень вкусная беседа. Соловьев очень здорово рассказывает, что он как-то с ней на какой-то выставке был. Говорит, у нее же восприятие мира была очень своеобразное. Улавливала человека. Идет красиво одетая женщина. Мало того, что она могла сказать, что это за наряд, вот не хватает к этому наряду, называет какую-то шляпку. В ее голове выстраивался целый образ, который надо было бы завершить шляпкой. К ней тянулись. Не буду всех перечислять. Но люди в ней чувствовали вот это высокое знание искусства.
С. СОРОКИНА: И чутье.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: И Чутье потрясающее.
С. СОРОКИНА: А рассказчик потрясающий. Вы знаете, мы сейчас даже задумались, ссоримся и спорим, ее друзья. Я очень хотела перевести в тексты ее лекции, что соберем. Кстати говоря, если кто услышит, если у кого-нибудь есть из ВГИКА или на Высших режиссерских курсах записанные на диктофон ее лекции, вдруг такое есть, мы бы попросили как-то связаться. Хоть бы и через « Эхо». Связаться, например, со мной. Потому то мы собираем все эти разрозненные лекции. Я хотела бы перевести в текст, немножко отредактировать и напечатать. Потому что это прекрасная была бы история, книга для тех, кто любит искусство. А меня другой клан друзей отговаривают. Говорят, что это не надо делать, потому что надо издать диски и все. Потому что ее надо именно слушать или ее надо слушать и смотреть. Не нужно переводить в текст. Она именно рассказчик. С одной стороны, я согласна, она действительно непревзойденный рассказчик, причем не зависело, одному человеку говорит или целому залу, или целой аудитории телевизионной. Не зависело. Она так же рассказывала. Мне безумно хочется именно книжку в руках подержать, чтобы она была с иллюстрациями, чтобы были эти тексты Паолины. Пока мы не пришли еще к общему знаменателю.
М. ПЕШКОВА: Ведущие эфира Светлана Сорокина и Юрий Кобаладзе, памяти профессора Паолы Волковой в программе « Непрошедшее время» на «Эхо Москвы».
В чем секрет ее молодости?
Ю. КОБАЛАДЗЕ: В умении общаться. В умении располагать к себе. Я никогда не понимал, сколько ей лет. Очень трудно было определить. В этом, наверно, мне всегда казалось, что завтра мы встретимся. Как-то мы поехали к ней в гости. Я захватил из дома бутылку вина. Надо же что-то зять с собой. Когда уже в подъезде, когда я зашел, я посмотрел на эту бутылку, какая-то редкостная, кто-то мне подарил за сумасшедшие деньги. Я ей вручаю бутылку и говорю: « Паола, не вздумайте поставить за стол, потому что эти азиаты выпьют, не поймут, что они пьют. Это для нас с вами. Сохраните, я как-нибудь к вам зайду». Это «я как-нибудь зайду» продолжалось полтора года, но никогда не было ощущения, что этого не состоится. Она как-то предательски ушла их жизни. Неожиданно. Ничто не предвещало, что этот человек может исчезнуть с лица земли.
С.СОРОКИНА: Я считаю, что секрет ее молодости в жизнелюбии потрясающем. В том, что она никогда не останавливалась и все время строила планы. Несмотря на то, как я сейчас понимаю, периодически она себя очень скверно чувствовала, но вот этих затяжных жалоб или отсутствия планов в связи с тем, что плохо себя чувствуешь, такого не было. Второе, это, наверное, то, что она преподавала всю жизнь. Именно преподавательская работа как-то тонизирует. Все время в окружении тех, кто молод, кто к тебе тянется. У нее все время были молодые люди в окружении. Все время кто-то заходил, советовался.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: У нее всегда вкуснятина была.
С. СОРОКИНА: Она готовила всегда. Она либо сама готовила, она очень хорошо готовила. У нее был дом, как не придешь, на стол тут же будет накрыто, что-то вкусное поставлено. А угощала всегда просто азартно. Это тоже секрет ее молодости. Перед Новым годом на католическое рождество у меня есть такая традиция, я домой собираю друзей, потому что на Новый год все разъезжаются, а тут повидаться. Она была как раз у меня в декабре 12-го. Все смеялись, очень хорошо сидели. И она сказала кому-то из своих приятельниц, которая посетовала, что вот там возраст и т.д. Она сказала, что я с определенного момента просто выключила счетчик. Я вообще об этом не думаю и не собираюсь думать. Я живу и наслаждаюсь жизнью. Вот я так и запомнила.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Последний раз я хорошо над ней поиздевался на дне рождении Тони.
С. СОРОКИНА: Она очень любила мою дочку. Очень любила Тоську.
М. ПЕШКОВА: Да, она рассказывала.
С. СОРОКИНА: На дне рождении, у Тоньки в августе день рождения, мы всегда на даче собираемся. Юрий Георгиевич традиционный тамада, он ее крестный, Паолочка была. Мы что-то так смеялись. Как она умела смеяться, боже! Какое у нее было у самой чувство юмора. Как она ценила чувство юмора у окружающих. Как она смеялась заразительно. Это было замечательно.
М. ПЕШКОВА: Временами она напоминала ребенка. У меня личное впечатление. Приехал Полунин первый раз в Россию с представлением. Мы сидели рядом. Я еще не знала, кто эта дама. Она так азартно смеялась. Она это так живо комментировала. Она так аплодировала в кресле. Такой я ее и запомнила.
С. СОРОКИНА: Кстати говоря, она очень вычленяла и любила таких талантливых людей в любой области. У нее было свое суждение по поводу того или иного человека, совершенно независимо от его известности или чего-то еще. Если она считала, то она объясняла, почему это так. Находила таланты хотя бы для себя, в свою внутреннюю копилку.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Несколько раз попадал случайно компанией, где она была. Шел какой-то разговор об искусстве. Она, конечно, глубоко это знала. «Черный квадрат» обсуждали, не знаю почему.
С. СОРОКИНА: А какая память великолепная.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Она выуживала такие факты, объяснения, почему, философию художника. Она знала это все досконально. Света расскажет, она знала расположение картин музеев, в которых она не бывала.
С. СОРОКИНА: Она развеску знала в музеях основных. Когда я с удивлением сказала, откуда вы знаете, вы же здесь не были. Она сказала, а кто же это не знает.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Картина за углом.
С. СОРОКИНА: А еще через два зала пройдем, будет то-то. Это поразительно. Потом я привыкла. Мне повезло. Я с ней пару раз в Лувре была. Оказывались в Париже, ходили в Лувр. Это было ее непременное предложение. Она на месте не сидела. Могла наматывать километры. Я уже с ног валилась. Она говорила, значит, идем в Лувр. Хорошо. Значит, пойдем пораньше, а то будут очереди. Скажите, куда именно идем, что именно вы хотите посмотреть. Лувр слишком большой, чтобы по нему просто так шляться. Пойдем куда-то конкретно. Мы с ней выбирали направление и шли конкретно смотреть художника или художников, которых выбирали. Это всегда было безумно интересно. Она так рассказывала всегда, не громко, но жестикулируя своими прекрасными руками. Вокруг нас стали скапливаться люди, которые с сожалением убеждались, что разговор идет на непонятном языке и отходили.
М. ПЕШКОВА: Дело жизни Паолы Дмитриевны – это Тарковский.
С. СОРОКИНА: Я знаю, что ее, в том числе усилиями фонда, могила была оформлена, сделана. Премия имени Тарковского на фестивалях, у нее это регулярно было. По-моему, один музей, то, что сделано. Как-то они были знакомы. Он чуть ли не учился у нее. Из первых ее учеников. Про него очень рассказывала она интересно. Книги, конечно, это то, что она сделала.
М. ПЕШКОВА: Еще был один герой. Ее тоже личная привязанность. Это Тонино Гуэрра.
С. СОРОКИНА: Она его пережила ровно на год. 16 марта было год, как умер Тонино, а 15 марта она умерла. Ездила она и на похороны.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Они даже внешне похожи, мне кажется, Тонино и Паола. У них какая-то смешинка в глазах.
С. СОРОКИНА: Да, по стилистике. Она тоже смешное рассказывала. Заметно, что говорю смешно в рассказе о похоронах, когда хоронили Тонино Гуэрра. Кстати, Юра Рост очень хорошо написал. Это «Хроника хороших похорон». Паола тоже приехала. Рассказывала, что все это было занятно и именно так, как это должно было быть у Тонино. Масса было каких-то забавностей во время этих похорон. И говорит, этот портрет хохочущего Тонино, которого таскали с места на место. Все время он хохочущий над всей этой процессией возвышался. Она говорит, что это было что-то. А еще весна, красота, солнце светит. Ровно через год ее не стало.
М. ПЕШКОВА: У Паолы Дмитриевны был непревзойденный дар. Она любила, и она умела дружить.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Это правда. Это я подтверждаю, хотя не претендую на такое близкое тесное знакомство. Но то, что с ней постоянно хотелось общаться, она была очень дружелюбной.
С. СОРОКИНА: Она поддерживала отношения. Она сама звонила. Она всегда находила время поговорить. Даже хотя бы по телефону. Всегда живо интересовалась друзьями. Хотя, казалось бы, от своего устанешь, да. Она очень была вовлеченным человеком. Кого любила, она тех в своем круге держала очень. Всегда была рада видеться. Не откладывала. Мы более молодые, а все время что-нибудь откладываем. Потом встретимся, сейчас занят, сейчас занята. Паола была готова встретиться и пригласить к себе просто в любой момент.
М. ПЕШКОВА: Она любила путешествовать?
С. СОРОКИНА: Очень.
М. ПЕШКОВА: То- то она мне говорила.
С. СОРОКИНА: Такой легкий был человек. Как она путешествовала. Я не успевала за мельканием ее поездок. За последнее время это был Петербург, Тбилиси, Рим, опять собиралась в Рим через некоторое время ехать по делу. Потом к дочке в Париж. Бесконечные поездки у нее были.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Я не знаю, Света согласиться или нет. Она еще в силу своего характера и умения говорить и рассказывать, она раскрывала потенциал и собравшихся людей.
С. СОРОКИНА: С самыми разными людьми была знакома. Это было такое естественное дружество. Самых разных людей можно было встретиться у нее или где-то, когда вместе подходили. К ней подходили. Она действительно выучила большое число киношной Москвы. Ее знали очень многие.
М. ПЕШКОВА: Кто ее ученики, можно назвать несколько имен?
С. СОРОКИНА: Тарковского мы упомянули. Абдрашитов, Соловьев, Рустам Хамдамов. Куча менее известных людей, но тем не менее.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: На похоронах, на поминках многие были.
С. СОРОКИНА: Сокуров какие слова говорил. Вообще последний фильм « Фауст» он ей посвятил. Сказал, когда был закрытый просмотр, что именно разговоры с ней об искусстве, о философии, о жизни навели его на мысль этого фильма.
М. ПЕШКОВА: Видимо, она относилась с пиететом к своим учителям, педагогам.
С.СОРОКИНА: Да. Вычленяла несколько имен великих людей, которых почитала своими учителями. Например, Эфрос, это одна история. Кстати говоря, все люди, которых она чтила учителями, это были не какие-то книжные истории, это личные знакомства были. Это было влияние напрямую. Например, Лев Гумилев, Мераб Мамардашвили, Александр Пятигорский. Все эти люди, с которыми она была лично знакома, переписывалась, перезванивалась, встречалась, разговаривала. Память о них сохранила на всю жизнь.
М. ПЕШКОВА: Сороковины Паолы Дмитриевны?
М. ПЕШКОВА: Феномен яркости, который был свойственен Паоле Дмитриевне, как вы думаете, для нашего времени это характерная черта или это искра?
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Она штучный товар.
С. СОРОКИНА: Во всем проявлялась яркость. Она даже одевалась необычно. Она до последнего так одевалась. У нее был обязательно какой-то экстравагантный наряд. Яркий цвет, цветок на груди, кольца на руках.
М. ПЕШКОВА: Шляпка на голове.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Потрясающий рисунок у нее висит, чей рисунок?
С. СОРОКИНА: Акимова. Портрет ее молодой еще. Кстати, один из портретов в Третьяковке есть. Акимовский портрет Паолы. Паола во всем была яркая. Видимо, такая цельная натура. И снаружи и внутри. Там не было ничего серенького.
М. ПЕШКОВА: Как ее хватало на всех, я до сих пор не понимаю?
С. СОРОКИНА: Причем у нее была семья, дети, мужья, родственники, друзья, ученики. Знаете, мне когда-то ушедший и замечательный человек Гердт Зиновий Ефимович сказал, что у человека столько друзей, на сколько у него хватает души. С этой меркой все очень просто. На сколько хватает души, столько у тебя друзей.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Она как-то не заморачивалась такими вещами, бытом.
С.СОРОКИНА: Быт при этом висел на ней. Квартирка скромненькая, небольшая.
Ю. КОБАЛАДЗЕ: Никаких там не было изысков особых. Она не очень обращала на это внимание, потому что была целиков занята людьми, общением, дружбой.
С. СОРОКИНА: Тем не менее, в ее доме всегда было очень уютно и сытно. Последнее, что хотелось сказать, что мы с друзьями ее некоторыми общаемся, собираемся. Она как бы нам оставила такое друг дружке наследство. Даже те, с кем мы знали друг о друге, но не очень общались, мы сейчас все общаемся. Объединены даже какими-то общими делами, заботами. Каждый раз, когда мы где-то соберемся и начинаем вспоминать Паолу, мы вспоминаем ее очень весело. Вот уже оплакали первые дни, прошло, выдохнули, ушло первое горе. Теперь, когда мы встречаемся и вспоминаем ее, кончается тем, что мы начинаем хохотать. Вспоминать какие-то истории. Истриям этим нет конца. Какие-то рассказы, ситуации. И смеемся. Наверное, это лучшее, что может быть.
М. ПЕШКОВА: Ведущая « Эхо Москвы» Светлана Сорокина и Юрий Кобаладзе в программе памяти искусствоведа Паолы Волковой. Уже завершилась запись программы, и в студию стремительно вошел телеоператор Александр Куделин, который студентом ВГИКА слушал лекции Паолы Дмитриевны. Вспомнил Волкову как лектора и экзаменатора. Помянем и мы интересного рассказчика Паолу Дмитриевну Волкову, с кем можно было беседовать обо всем на свете. Звукорежиссер – Александр Смрнов. Я – Майя Пешкова. Программа « Непрошедшее время».
Искусствовед Паола Волкова вспоминает о творческом трепе, мышлении вслух, шикарном алкоголизме, разговорах о Сократе, о Кшиштофе Занусси в советской коммуналке и о том, как таможенники облегчают прощание с родиной
Подготовила Ксения Лученко
Паола Волкова Фонд Андрея Тарковского
О 1960-х
Мы жили в городе, где все постоянно перетекали друг к другу. Вся Москва перетекала, все интересовались всем. Тебя кто-то всегда приводил в гости к кому-то, кто тебя интересовал, кто интересовался тобой: художники, их подруги, знакомые тех подруг, какие-нибудь физики из Курчатовского института, что тогда было очень популярно и модно. Это живая магма, движение московского общества. Мне кажется, что время помнится немножко схоластически. А оно было живой материей. И вот эта живая материя, может быть, самое ценное, что было. Потому что больше это уже никогда не повторится. Во всяком случае, на моем веку.
Об Андрее Сергееве и квартире Пятигорского
Андрей Сергеев Андрей Сергеев ( 1933-1998) — поэт, прозаик, переводчик англоязычной поэзии (Джойса, Элиота, Фроста, Сэндберга и других). купил квартиру на третьем этаже в кооперативном доме Союза писателей около метро «Пионерская». Это был не шикарный какой-то писательский дом, а блочный дом без лифта. Андрей Сергеев был очень хорошим поэтом и замечательным переводчиком. Тогда вообще считали, что он самый лучший, это было единое мнение, потому что Андрей Сергеев был первым, кто переводил современную американскую и английскую поэзию, о которой мы ничего не знали. 1960-1970-е годы были полны невежества в отношении окружающего нас мира. Сейчас это трудно представить, потому что вы приходите в книжный магазин — и нет ничего такого, чего вы не могли бы купить. А тогда была совсем другая ситуация.
Когда собирались у Андрея Сергеева, он читал свои переводы. И почти что ежедневно с небес, с пятого этажа, спускался Саша Пятигорский, который там жил с «женой моей, Таней». Он всегда говорил: «А жена моя, Таня». Но жену Таню очень мало кто видел, мы с ней познакомились много позже. И Пятигорский тоже слушал все эти переводы, потом начинались востоковедческие разговоры — то, что называется «творческий треп». Это были наши университеты. А поскольку у Саши Пятигорского в те годы очень часто бывал Мераб Мамардашвили, то они спускались вместе.
О Мамардашвили
Потом, много времени спустя, я пришла на психологический факультет университета слушать его лекции. То, что я услышала, меня изумило до бесконечности. И тогда я стала приглашать своих друзей на его лекции.
Ведь я не была студенткой, я была практически ровесницей Мераба. Я очень много читала. Знаете, поколение читает одни и те же книги. Мы были поколением, и мы читали одни и те же книги. Как говорил Огарев, мы плакали над одним и тем же. Мне кажется, что это очень важно помнить. Тогда уже слышался и голос Солженицына, и Шаламова, и Гумилева. Мы были современниками. Я не была совсем неофитом, но я была поражена. Мераб меня потряс. Я слышала очень много хороших лекторов. Смею думать (может быть, несколько самонадеянно), что и сама неплохо владею этой профессией. Но с Мерабом было ощущение того, что вы вместе мыслите вслух. Он включал аудиторию в процесс рождения мысли. Сейчас очень трудно даже понять, что это такое. Есть люди, которые могут мыслить с пером в руках. А есть люди, которые мыслят так, что вы видите мысль как рождающийся творческий акт. Он нас включал в очень насыщенный слой культуры, мы попадали в целое культурное пространство.
Философы, наверное, очень хорошо могут рассказать о том, что такое философия Мамардашвили. Я могу сказать, что он был уникальным носителем целого мира культуры. И я поняла, что студентам очень важно это слышать. И это меня подвигло начать сложнейшие переговоры со ВГИКом. Мы взяли Мераба на почасовые лекции. И я не ошиблась.
О комнате Мамардашвили на Донской
Он жил в Москве на Донской улице, рядом с метро «Октябрьская», в замечательной комнате. Однажды в Москву приехал Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси
— польский кинорежиссер и сценарист.
.
А Кшиштоф по своему первоначальному образованию тоже философ. Это был канун старого Нового года, и мы поехали к Мерабу в гости. Кшиштоф был прекрасен, красиво одет, хорош собой, молод. Когда он увидал эту коммунальную квартиру, в которой был сосед — отсидевший уголовник, его охватила оторопь: настолько келейна, аскетична и проста была жизнь Мераба. «Где ваши книги?» — спрашивает Занусси. Мераб так лениво рукой с трубкой повел, сказал: «Вот они». И тут мы увидали, что висит несколько плотно зашторенных, закрытых полок, и наверху одной из них — работа, с которой он никогда не расставался, «Распятие» Эрнста Неизвестного. «Те книги, которые мне нужны, все закрыты. Я терпеть не могу видеть книги», — сказал Мераб.
Образ Мераба был эстетически завершенным. Он был очень элегантен, прекрасно одевался. И в этом слежении за собой, мне кажется, есть одно обстоятельство, прекрасно описанное Булгаковым, который тоже очень следил за собой. Очень многим людям со сложным внутренним порядком и с очень большими шумами внутри необходима форма. Которую Маяковский прекрасно определил словами «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана». Но тут речь шла не о желтой кофте, а о красивых свитерах с кожаными заплатками на локтях и безупречных рубашках.
О преодолении языка
Мераб говорил непросто. Речь его была не бытовой. Я читаю лекции, как тетка на кухне, без терминологии, так, чтобы понимали. Мераб не читал просто. Я у него спросила: «Мераб, почему вы так сложно говорите?» Он сказал: «Очень важно делать усилие по преодолению языка». Потому что совдеповский язык не может быть языком философии.
Он говорил, что вся история мировой философии есть лишь комментарий к Платону. И очень точно его цитировал. Я была поражена оттого, что античность непрерывна, она вершится ежедневно, и он является комментатором. Он не просто читал античную философию. Он ее комментировал. И в этот комментаторский текст засасывалось очень много культурной коррекции.
 Мераб Мамардашвили
The National Parliamentary Library of Georgia
Мераб Мамардашвили
The National Parliamentary Library of Georgia
О пьянстве и разговорах
Никогда не было разговора о деньгах, потому что не было такого предмета, как деньги, в обиходе. Я не знаю, как мы жили, но были милы. И пили, естественно. Сам по себе алкоголизм — омерзительная вещь, как я сейчас понимаю, но тогда он был предметом большого шика. Одним из самых шикарных принцев богемы был Анатолий Зверев Анатолий Зверев — художник-авангардист. , они ходили вместе с Димой Плавинским Дмитрий Плавинский — художник и график. . И о том, как они пили, ходили легенды по Москве. Но они же были великими художниками. Более того, мы только сейчас и можем оценить, до какой же степени они были художниками. Это был стиль времени.
Эрнст Неизвестный пил не просто. Он перепивал всех. И я помню время, когда Эрнст Неизвестный ходил в пижамных штанах и в завязанном на четыре узелка платочке на голове.
Это была среда. Это были кумиры, лидеры времени. И никогда, когда собирались эти люди, не было разговора о деньгах и имуществе, а были разговоры о главном, и они начинались с той точки, на которой закончились позавчера.
В мастерской у Эрнста бывало очень много народу. Там велись нешуточные разговоры и нешуточные споры, потому что человек он темпераментный, лобовой: фронтовик, воевавший человек. У него была очень большая внутренняя независимость и свобода. Когда Сартр приезжал в Москву, он встретился с Эрнстом Неизвестным. И один из самых важных разговоров, который произошел между ними, был разговор о свободе. Они не поняли друг друга вообще. Эрнст был взбешен. Суть заключалась в том, что для Эрнста свобода была абсолютной необходимостью глубокого самопознания и полного самовыражения. Он был очень независим. Он мог и Хрущеву, и кому угодно, и своим близким сказать то, что он считает нужным сказать. А вот свобода — это именно творчество. Тогда не путали эти вещи.
Еще мы много говорили о стране, о том, что является одной из важнейших тем для творчества Мамардашвили, — что такое открытое гражданское общество. А ведь Мераб во всем оказался прав. Очень много говорили о Сократе. Вы даже не представляете себе, какие были разговоры о Сократе. С ним были все лично знакомы, он словно на минутку вышел за угол. Вообще, отношение к культуре, к истории было отношением личного знакомства, близости. И Мераб так на лекциях думал. Он рассказывал о Декарте, как тот ходил учить королеву Кристину, как было холодно и как он шел в промозглой темноте учить эту девочку в пять часов утра. Я в этот момент понимала, что это он встает в пять утра, когда промозгло и холодно...
Тогда только вышли сонеты Шекспира в переводе Маршака, и эта книга стала событием. Все стали наизусть читать сонеты так называемого Шекспира, а на самом деле Маршака. И все могли по очереди, не останавливаясь, не договариваясь заранее, читать сонеты: книгу не только знали, ее выучили. Это образ, который очень важен: вы глотаете книгу, и сначала горько, а потом сладко становится внутри. То время, о котором я говорю, его живая ткань была уникально целительной и важной для того места, где мы с вами живем, и для того языка, на котором мы с вами пока еще говорим. То есть для той формы, которая могла бы стать Россией и не стала. Я не хочу, чтоб меня превратно поняли, что ее носителем была богема. Ни в коем случае. Но, во всяком случае, то, что делалось тогда в культуре поколениями и современниками, — в культуре театральных подмостков, киношкол, в мастерских художников, в кулуарах Курчатовского института, где мы делали выставки второго авангарда, где я читала первые лекции о Китае, — это было нужно, это могло бы стать Россией.
О Боге
Говорили, конечно, о Боге. И для Пятигорского, и для Мамардашвили это очень важный дискуссионный момент.
В чем я вижу близость между людьми, которые не были между собой дружны, но встречались у Сергеева, — между Андреем Синявским и Мерабом Мамардашвили? Как говорил Мераб, наша художественная история кончилась еще в 1914 году. А потом начался, грубо говоря, соцреализм, советская философия, и получился провал. Усилия жизни, очень мощной творческой жизни направлены были на то, чтобы соединить два конца, поднять со дна Атлантиду Серебряного века. Это было необходимо. Мераб повернул голову назад, и мы вообще должны были повернуть голову назад. Они навели мост. И вот Синявский был одним из первых, он писал замечательную книгу «Земля и небо в древнерусском искусстве». Потому что в числе тем и проблем, которые были очень важны для 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, были те, которые были обронены тогда, на рубеже двух столетий, — древнерусское искусство, вопросы реставрации.
Поэтому, конечно, разговоры о религии были. Поскольку и для Саши Пятигорского, и для Мераба был очень важен вопрос богов. Кстати, потом уже, к 1980-м годам, Мераб очень заинтересовался отцом Александром Менем и общался с ним. Православие для него стало доминирующим. Он говорил о том, что такое вера для человека. Время делало усилие по возвращению абсолютных ценностей. Абсолютных ценностей в понятии чести и связи человека с чем-то.
Одной из самых главных функций и его, и Пятигорского, и Андрея Синявского было разрушение стереотипов сознания. Разрушение стереотипов представлений о мире, в котором ты живешь. Разрушение стереотипа поведения. Выйти из времени, выйти из поколения. И спланировать сверху в эту точку.
Об эмиграции
 Александр Пятигорский в Швеции. Фотография Людмилы Пятигорской.
Александр Пятигорский в Швеции. Фотография Людмилы Пятигорской. 2006 год svoboda.org
Когда люди начали уезжать, было ощущение конца прекрасной эпохи. В жизни, о которой я говорю, формирующим началом было общение. Это была не только дружба, но акт познания. И вот что-то главное в жизни кончилось, его больше не будет. Москва пустела. В ней не было Неизвестного, Пятигорского, Синявского. Помню, я у Мераба спросила: «А почему не уезжаете вы?» Он сказал: «Саше уезжать надо, а мне надо оставаться здесь, мне не надо».
Пятигорскому надо было уезжать, потому что он был пишущим человеком. Он написал «Жизнь Будды» в серии ЖЗЛ, но некому было ее печатать, и это сыграло свою роль в его отъезде. У него не было большой лекционной аудитории, он был исследователь, на Западе уже широко известный.
Его провожало очень небольшое количество людей. И лично я его не провожала. Но я знаю об одном эпизоде и от Мераба, и от Саши. Пограничники стали над ним глумиться, демонстративно распаковывать его чемодан. Что у Саши было, кроме одного костюма, еще одной пары брюк и каких-то нефирменных трусов? Таможенник это все со смаком ворошил в его убогом скарбе. Саша стоял, молчал. И когда все это закончилось, Саша этому пограничнику-таможеннику сказал: «Благодарю вас, молодой человек. Вы значительно облегчили мне прощание с родиной». Это достоинство было очень ценимо.
«Паола Дмитриевна была человеком-легендой. Легендой во ВГИКе, где она преподавала, легендой перестройки, когда она вышла на широкий простор нашей культуры, легендой, когда она воевала за память Тарковского, с которым была близко знакома, вокруг наследия которого разгорались нешуточные бои».
Киновед Кирилл Разлогов
«Когда она рассказывала об искусстве, оно как будто превращалось в какой-то бриллиант. Ее любили все, вы знаете. В каждом деле есть кто-то лучше других. Генерал этого дела. Вот она в своем деле была генерал».
Режиссер Александр Митта
Когда Паолу Волкову просили перевести лекции в книги, она говорила, письменная речь, требует другого мышления и другого языка. Мастер блестящего рассказа, она признавалась, что только в последнее время научилась писать коротко и лаконично. Но в этой экономности было такое богатство эпох и судеб, такая концентрация мысли и чувства, что хватило бы на несколько десятков томов - только времени оказалось слишком мало.
Искусствовед Паола Волкова вспоминает о творческом трепе, мышлении вслух, шикарном алкоголизме, разговорах о Сократе, о Кшиштофе Занусси в советской коммуналке и о том, как таможенники облегчают прощание с родиной
О 1960-х
Мы жили в городе, где все постоянно перетекали друг к другу. Вся Москва перетекала, все интересовались всем. Тебя кто-то всегда приводил в гости к кому-то, кто тебя интересовал, кто интересовался тобой: художники, их подруги, знакомые тех подруг, какие-нибудь физики из Курчатовского института, что тогда было очень популярно и модно. Это живая магма, движение московского общества. Мне кажется, что время помнится немножко схоластически. А оно было живой материей. И вот эта живая материя, может быть, самое ценное, что было. Потому что больше это уже никогда не повторится. Во всяком случае, на моем веку.
Об Андрее Сергееве и квартире Пятигорского
Андрей Сергеев купил квартиру на третьем этаже в кооперативном доме Союза писателей около метро «Пионерская». Это был не шикарный какой-то писательский дом, а блочный дом без лифта. Андрей Сергеев был очень хорошим поэтом и замечательным переводчиком. Тогда вообще считали, что он самый лучший, это было единое мнение, потому что Андрей Сергеев был первым, кто переводил современную американскую и английскую поэзию, о которой мы ничего не знали. 1960-1970-е годы были полны невежества в отношении окружающего нас мира. Сейчас это трудно представить, потому что вы приходите в книжный магазин — и нет ничего такого, чего вы не могли бы купить. А тогда была совсем другая ситуация.
Когда собирались у Андрея Сергеева, он читал сво и переводы. И почти что ежедневно с небес, с пятого этажа, спускался Саша Пятигорский, который там жил с «женой моей, Таней». Он всегда говорил: «А жена моя, Таня». Но жену Таню очень мало кто видел, мы с ней познакомились много позже. И Пятигорский тоже слушал все эти переводы, потом начинались востоковедческие разговоры — то, что называется «творческий треп». Это были наши университеты. А поскольку у Саши Пятигорского в те годы очень часто бывал Мераб Мамардашвили, то они спускались вместе.
О Мамардашвили
Потом, много времени спустя, я пришла на психологический факультет университета слушать его лекции. То, что я услышала, меня изумило до бесконечности. И тогда я стала приглашать своих друзей на его лекции.
Ведь я не была студенткой, я была практически ровесницей Мераба. Я очень много читала. Знаете, поколение читает одни и те же книги. Мы были поколением, и мы читали одни и те же книги. Как говорил Огарев, мы плакали над одним и тем же. Мне кажется, что это очень важно помнить. Тогда уже слышался и голос Солженицына, и Шаламова, и Гумилева. Мы были современниками. Я не была совсем неофитом, но я была поражена. Мераб меня потряс. Я слышала очень много хороших лекторов. Смею думать (может быть, несколько самонадеянно), что и сама неплохо владею этой профессией. Но с Мерабом было ощущение того, что вы вместе мыслите вслух. Он включал аудиторию в процесс рождения мысли. Сейчас очень трудно даже понять, что это такое. Есть люди, которые могут мыслить с пером в руках. А есть люди, которые мыслят так, что вы видите мысль как рождающийся творческий акт. Он нас включал в очень насыщенный слой культуры, мы попадали в целое культурное пространство.
Философы, наверное, очень хорошо могут рассказать о том, что такое философия Мамардашвили. Я могу сказать, что он был уникальным носителем целого мира культуры. И я поняла, что студентам очень важно это слышать. И это меня подвигло начать сложнейшие переговоры со ВГИКом. Мы взяли Мераба на почасовые лекции. И я не ошиблась.
О комнате Мамардашвили на Донской
Он жил в Москве на Донской улице, рядом с метро «Октябрьская», в замечательной комнате. Однажды в Москву приехал Кшиштоф Занусси.
А Кшиштоф по своему первоначальному образованию тоже философ. Это был канун старого Нового года, и мы поехали к Мерабу в гости. Кшиштоф был прекрасен, красиво одет, хорош собой, молод. Когда он увидал эту коммунальную квартиру, в которой был сосед — отсидевший уголовник, его охватила оторопь: настолько келейна, аскетична и проста была жизнь Мераба. «Где ваши книги?» — спрашивает Занусси. Мераб так лениво рукой с трубкой повел, сказал: «Вот они». И тут мы увидали, что висит несколько плотно зашторенных, закрытых полок, и наверху одной из них — работа, с которой он никогда не расставался, «Распятие» Эрнста Неизвестного. «Те книги, которые мне нужны, все закрыты. Я терпеть не могу видеть книги», — сказал Мераб.
Образ Мераба был эстетически завершенным. Он был очень элегантен, прекрасно одевался. И в этом слежении за собой, мне кажется, есть одно обстоятельство, прекрасно описанное Булгаковым, который тоже очень следил за собой. Очень многим людям со сложным внутренним порядком и с очень большими шумами внутри необходима форма. Которую Маяковский прекрасно определил словами «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана». Но тут речь шла не о желтой кофте, а о красивых свитерах с кожаными заплатками на локтях и безупречных рубашках.
О преодолении языка
Мераб говорил непросто. Речь его была не бытовой. Я читаю лекции, как тетка на кухне, без терминологии, так, чтобы понимали. Мераб не читал просто. Я у него спросила: «Мераб, почему вы так сложно говорите?» Он сказал: «Очень важно делать усилие по преодолению языка». Потому что совдеповский язык не может быть языком философии.
Он говорил, что вся история мировой философии есть лишь комментарий к Платону. И очень точно его цитировал. Я была поражена оттого, что античность непрерывна, она вершится ежедневно, и он является комментатором. Он не просто читал античную философию. Он ее комментировал. И в этот комментаторский текст засасывалось очень много культурной коррекции.

Мераб Мамардашвили
О пьянстве и разговорах
Никогда не было разговора о деньгах, потому что не было такого предмета, как деньги, в обиходе. Я не знаю, как мы жили, но были милы. И пили, естественно. Сам по себе алкоголизм — омерзительная вещь, как я сейчас понимаю, но тогда он был предметом большого шика. Одним из самых шикарных принцев богемы был Анатолий Зверев, они ходили вместе с Димой Плавинским. И о том, как они пили, ходили легенды по Москве. Но они же были великими художниками. Более того, мы только сейчас и можем оценить, до какой же степени они были художниками. Это был стиль времени.
Эрнст Неизвестный пил не просто. Он перепивал всех. И я помню время, когда Эрнст Неизвестный ходил в пижамных штанах и в завязанном на четыре узелка платочке на голове.
Это была среда. Это были кумиры, лидеры времени. И никогда, когда собирались эти люди, не было разговора о деньгах и имуществе, а были разговоры о главном, и они начинались с той точки, на которой закончились позавчера.
В мастерской у Эрнста бывало очень много народу. Там велись нешуточные разговоры и нешуточные споры, потому что человек он темпераментный, лобовой: фронтовик, воевавший человек. У него была очень большая внутренняя независимость и свобода. Когда Сартр приезжал в Москву, он встретился с Эрнстом Неизвестным. И один из самых важных разговоров, который произошел между ними, был разговор о свободе. Они не поняли друг друга вообще. Эрнст был взбешен. Суть заключалась в том, что для Эрнста свобода была абсолютной необходимостью глубокого самопознания и полного самовыражения. Он был очень независим. Он мог и Хрущеву, и кому угодно, и своим близким сказать то, что он считает нужным сказать. А вот свобода — это именно творчество. Тогда не путали эти вещи.
Еще мы много говорили о стране, о том, что является одной из важнейших тем для творчества Мамардашвили, — что такое открытое гражданское общество. А ведь Мераб во всем оказался прав. Очень много говорили о Сократе. Вы даже не представляете себе, какие были разговоры о Сократе. С ним были все лично знакомы, он словно на минутку вышел за угол. Вообще, отношение к культуре, к истории было отношением личного знакомства, близости. И Мераб так на лекциях думал. Он рассказывал о Декарте, как тот ходил учить королеву Кристину, как было холодно и как он шел в промозглой темноте учить эту девочку в пять часов утра. Я в этот момент понимала, что это он встает в пять утра, когда промозгло и холодно...
Тогда только вышли сонеты Шекспира в переводе Маршака, и эта книга стала событием. Все стали наизусть читать сонеты так называемого Шекспира, а на самом деле Маршака. И все могли по очереди, не останавливаясь, не договариваясь заранее, читать сонеты: книгу не только знали, ее выучили. Это образ, который очень важен: вы глотаете книгу, и сначала горько, а потом сладко становится внутри. То время, о котором я говорю, его живая ткань была уникально целительной и важной для того места, где мы с вами живем, и для того языка, на котором мы с вами пока еще говорим. То есть для той формы, которая могла бы стать Россией и не стала. Я не хочу, чтоб меня превратно поняли, что ее носителем была богема. Ни в коем случае. Во всяком случае, то, что делалось тогда в культуре поколениями и современниками, — в культуре театральных подмостков, киношкол, в мастерских художников, в кулуарах Курчатовского института, где мы делали выставки второго авангарда, где я читала первые лекции о Китае, — это было нужно, это могло бы стать Россией.
О Боге
Говорили, конечно, о Боге. И для Пятигорского, и для Мамардашвили это очень важный дискуссионный момент.
В чем я вижу близость между людьми, которые не были между собой дружны, но встречались у Сергеева, — между Андреем Синявским и Мерабом Мамардашвили? Как говорил Мераб, наша художественная история кончилась еще в 1914 году. А потом начался, грубо говоря, соцреализм, советская философия, и получился провал. Усилия жизни, очень мощной творческой жизни направлены были на то, чтобы соединить два конца, поднять со дна Атлантиду Серебряного века. Это было необходимо. Мераб повернул голову назад, и мы вообще должны были повернуть голову назад. Они навели мост. И вот Синявский был одним из первых, он писал замечательную книгу «Земля и небо в древнерусском искусстве». Потому что в числе тем и проблем, которые были очень важны для 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, были те, которые были обронены тогда, на рубеже двух столетий, — древнерусское искусство, вопросы реставрации.
Поэтому, конечно, разговоры о религии были. Поскольку и для Саши Пятигорского, и для Мераба был очень важен вопрос богов. Кстати, потом уже, к 1980-м годам, Мераб очень заинтересовался отцом Александром Менем и общался с ним. Православие для него стало доминирующим. Он говорил о том, что такое вера для человека. Время делало усилие по возвращению абсолютных ценностей. Абсолютных ценностей в понятии чести и связи человека с чем-то.
Одной из самых главных функций и его, и Пятигорского, и Андрея Синявского было разрушение стереотипов сознания. Разрушение стереотипов представлений о мире, в котором ты живешь. Разрушение стереотипа поведения. Выйти из времени, выйти из поколения. И спланировать сверху в эту точку.
Об эмиграции

Александр Пятигорский в Швеции. 2006
Когда люди начали уезжать, было ощущение конца прекрасной эпохи. В жизни, о которой я говорю, формирующим началом было общение. Это была не только дружба, но акт познания. И вот что-то главное в жизни кончилось, его больше не будет. Москва пустела. В ней не было Неизвестного, Пятигорского, Синявского. Помню, я у Мераба спросила: «А почему не уезжаете вы?» Он сказал: «Саше уезжать надо, а мне надо оставаться здесь, мне не надо».
Пятигорскому надо было уезжать, потому что он был пишущим человеком. Он написал «Жизнь Будды» в серии ЖЗЛ, но некому было ее печатать, и это сыграло свою роль в его отъезде. У него не было большой лекционной аудитории, он был исследователь, на Западе уже широко известный.
Его провожало очень небольшое количество людей. И лично я его не провожала. Но я знаю об одном эпизоде и от Мераба, и от Саши. Пограничники стали над ним глумиться, демонстративно распаковывать его чемодан. Что у Саши было, кроме одного костюма, еще одной пары брюк и каких-то нефирменных трусов? Таможенник это все со смаком ворошил в его убогом скарбе. Саша стоял, молчал. И когда все это закончилось, Саша этому пограничнику-таможеннику сказал: «Благодарю вас, молодой человек. Вы значительно облегчили мне прощание с родиной». Это достоинство было очень ценимо.