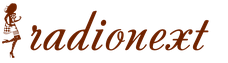Между собакой и волковой. На сколько хватает души О преодолении языка
Искусствовед Паола Волкова вспоминает о творческом трепе, мышлении вслух, шикарном алкоголизме, разговорах о Сократе, о Кшиштофе Занусси в советской коммуналке и о том, как таможенники облегчают прощание с родиной
Подготовила Ксения Лученко
Паола Волкова Фонд Андрея Тарковского
О 1960-х
Мы жили в городе, где все постоянно перетекали друг к другу. Вся Москва перетекала, все интересовались всем. Тебя кто-то всегда приводил в гости к кому-то, кто тебя интересовал, кто интересовался тобой: художники, их подруги, знакомые тех подруг, какие-нибудь физики из Курчатовского института, что тогда было очень популярно и модно. Это живая магма, движение московского общества. Мне кажется, что время помнится немножко схоластически. А оно было живой материей. И вот эта живая материя, может быть, самое ценное, что было. Потому что больше это уже никогда не повторится. Во всяком случае, на моем веку.
Об Андрее Сергееве и квартире Пятигорского
Андрей Сергеев Андрей Сергеев ( 1933-1998) — поэт, прозаик, переводчик англоязычной поэзии (Джойса, Элиота, Фроста, Сэндберга и других). купил квартиру на третьем этаже в кооперативном доме Союза писателей около метро «Пионерская». Это был не шикарный какой-то писательский дом, а блочный дом без лифта. Андрей Сергеев был очень хорошим поэтом и замечательным переводчиком. Тогда вообще считали, что он самый лучший, это было единое мнение, потому что Андрей Сергеев был первым, кто переводил современную американскую и английскую поэзию, о которой мы ничего не знали. 1960-1970-е годы были полны невежества в отношении окружающего нас мира. Сейчас это трудно представить, потому что вы приходите в книжный магазин — и нет ничего такого, чего вы не могли бы купить. А тогда была совсем другая ситуация.
Когда собирались у Андрея Сергеева, он читал свои переводы. И почти что ежедневно с небес, с пятого этажа, спускался Саша Пятигорский, который там жил с «женой моей, Таней». Он всегда говорил: «А жена моя, Таня». Но жену Таню очень мало кто видел, мы с ней познакомились много позже. И Пятигорский тоже слушал все эти переводы, потом начинались востоковедческие разговоры — то, что называется «творческий треп». Это были наши университеты. А поскольку у Саши Пятигорского в те годы очень часто бывал Мераб Мамардашвили, то они спускались вместе.
О Мамардашвили
Потом, много времени спустя, я пришла на психологический факультет университета слушать его лекции. То, что я услышала, меня изумило до бесконечности. И тогда я стала приглашать своих друзей на его лекции.
Ведь я не была студенткой, я была практически ровесницей Мераба. Я очень много читала. Знаете, поколение читает одни и те же книги. Мы были поколением, и мы читали одни и те же книги. Как говорил Огарев, мы плакали над одним и тем же. Мне кажется, что это очень важно помнить. Тогда уже слышался и голос Солженицына, и Шаламова, и Гумилева. Мы были современниками. Я не была совсем неофитом, но я была поражена. Мераб меня потряс. Я слышала очень много хороших лекторов. Смею думать (может быть, несколько самонадеянно), что и сама неплохо владею этой профессией. Но с Мерабом было ощущение того, что вы вместе мыслите вслух. Он включал аудиторию в процесс рождения мысли. Сейчас очень трудно даже понять, что это такое. Есть люди, которые могут мыслить с пером в руках. А есть люди, которые мыслят так, что вы видите мысль как рождающийся творческий акт. Он нас включал в очень насыщенный слой культуры, мы попадали в целое культурное пространство.
Философы, наверное, очень хорошо могут рассказать о том, что такое философия Мамардашвили. Я могу сказать, что он был уникальным носителем целого мира культуры. И я поняла, что студентам очень важно это слышать. И это меня подвигло начать сложнейшие переговоры со ВГИКом. Мы взяли Мераба на почасовые лекции. И я не ошиблась.
О комнате Мамардашвили на Донской
Он жил в Москве на Донской улице, рядом с метро «Октябрьская», в замечательной комнате. Однажды в Москву приехал Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси
— польский кинорежиссер и сценарист.
.
А Кшиштоф по своему первоначальному образованию тоже философ. Это был канун старого Нового года, и мы поехали к Мерабу в гости. Кшиштоф был прекрасен, красиво одет, хорош собой, молод. Когда он увидал эту коммунальную квартиру, в которой был сосед — отсидевший уголовник, его охватила оторопь: настолько келейна, аскетична и проста была жизнь Мераба. «Где ваши книги?» — спрашивает Занусси. Мераб так лениво рукой с трубкой повел, сказал: «Вот они». И тут мы увидали, что висит несколько плотно зашторенных, закрытых полок, и наверху одной из них — работа, с которой он никогда не расставался, «Распятие» Эрнста Неизвестного. «Те книги, которые мне нужны, все закрыты. Я терпеть не могу видеть книги», — сказал Мераб.
Образ Мераба был эстетически завершенным. Он был очень элегантен, прекрасно одевался. И в этом слежении за собой, мне кажется, есть одно обстоятельство, прекрасно описанное Булгаковым, который тоже очень следил за собой. Очень многим людям со сложным внутренним порядком и с очень большими шумами внутри необходима форма. Которую Маяковский прекрасно определил словами «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана». Но тут речь шла не о желтой кофте, а о красивых свитерах с кожаными заплатками на локтях и безупречных рубашках.
О преодолении языка
Мераб говорил непросто. Речь его была не бытовой. Я читаю лекции, как тетка на кухне, без терминологии, так, чтобы понимали. Мераб не читал просто. Я у него спросила: «Мераб, почему вы так сложно говорите?» Он сказал: «Очень важно делать усилие по преодолению языка». Потому что совдеповский язык не может быть языком философии.
Он говорил, что вся история мировой философии есть лишь комментарий к Платону. И очень точно его цитировал. Я была поражена оттого, что античность непрерывна, она вершится ежедневно, и он является комментатором. Он не просто читал античную философию. Он ее комментировал. И в этот комментаторский текст засасывалось очень много культурной коррекции.
 Мераб Мамардашвили
The National Parliamentary Library of Georgia
Мераб Мамардашвили
The National Parliamentary Library of Georgia
О пьянстве и разговорах
Никогда не было разговора о деньгах, потому что не было такого предмета, как деньги, в обиходе. Я не знаю, как мы жили, но были милы. И пили, естественно. Сам по себе алкоголизм — омерзительная вещь, как я сейчас понимаю, но тогда он был предметом большого шика. Одним из самых шикарных принцев богемы был Анатолий Зверев Анатолий Зверев — художник-авангардист. , они ходили вместе с Димой Плавинским Дмитрий Плавинский — художник и график. . И о том, как они пили, ходили легенды по Москве. Но они же были великими художниками. Более того, мы только сейчас и можем оценить, до какой же степени они были художниками. Это был стиль времени.
Эрнст Неизвестный пил не просто. Он перепивал всех. И я помню время, когда Эрнст Неизвестный ходил в пижамных штанах и в завязанном на четыре узелка платочке на голове.
Это была среда. Это были кумиры, лидеры времени. И никогда, когда собирались эти люди, не было разговора о деньгах и имуществе, а были разговоры о главном, и они начинались с той точки, на которой закончились позавчера.
В мастерской у Эрнста бывало очень много народу. Там велись нешуточные разговоры и нешуточные споры, потому что человек он темпераментный, лобовой: фронтовик, воевавший человек. У него была очень большая внутренняя независимость и свобода. Когда Сартр приезжал в Москву, он встретился с Эрнстом Неизвестным. И один из самых важных разговоров, который произошел между ними, был разговор о свободе. Они не поняли друг друга вообще. Эрнст был взбешен. Суть заключалась в том, что для Эрнста свобода была абсолютной необходимостью глубокого самопознания и полного самовыражения. Он был очень независим. Он мог и Хрущеву, и кому угодно, и своим близким сказать то, что он считает нужным сказать. А вот свобода — это именно творчество. Тогда не путали эти вещи.
Еще мы много говорили о стране, о том, что является одной из важнейших тем для творчества Мамардашвили, — что такое открытое гражданское общество. А ведь Мераб во всем оказался прав. Очень много говорили о Сократе. Вы даже не представляете себе, какие были разговоры о Сократе. С ним были все лично знакомы, он словно на минутку вышел за угол. Вообще, отношение к культуре, к истории было отношением личного знакомства, близости. И Мераб так на лекциях думал. Он рассказывал о Декарте, как тот ходил учить королеву Кристину, как было холодно и как он шел в промозглой темноте учить эту девочку в пять часов утра. Я в этот момент понимала, что это он встает в пять утра, когда промозгло и холодно...
Тогда только вышли сонеты Шекспира в переводе Маршака, и эта книга стала событием. Все стали наизусть читать сонеты так называемого Шекспира, а на самом деле Маршака. И все могли по очереди, не останавливаясь, не договариваясь заранее, читать сонеты: книгу не только знали, ее выучили. Это образ, который очень важен: вы глотаете книгу, и сначала горько, а потом сладко становится внутри. То время, о котором я говорю, его живая ткань была уникально целительной и важной для того места, где мы с вами живем, и для того языка, на котором мы с вами пока еще говорим. То есть для той формы, которая могла бы стать Россией и не стала. Я не хочу, чтоб меня превратно поняли, что ее носителем была богема. Ни в коем случае. Но, во всяком случае, то, что делалось тогда в культуре поколениями и современниками, — в культуре театральных подмостков, киношкол, в мастерских художников, в кулуарах Курчатовского института, где мы делали выставки второго авангарда, где я читала первые лекции о Китае, — это было нужно, это могло бы стать Россией.
О Боге
Говорили, конечно, о Боге. И для Пятигорского, и для Мамардашвили это очень важный дискуссионный момент.
В чем я вижу близость между людьми, которые не были между собой дружны, но встречались у Сергеева, — между Андреем Синявским и Мерабом Мамардашвили? Как говорил Мераб, наша художественная история кончилась еще в 1914 году. А потом начался, грубо говоря, соцреализм, советская философия, и получился провал. Усилия жизни, очень мощной творческой жизни направлены были на то, чтобы соединить два конца, поднять со дна Атлантиду Серебряного века. Это было необходимо. Мераб повернул голову назад, и мы вообще должны были повернуть голову назад. Они навели мост. И вот Синявский был одним из первых, он писал замечательную книгу «Земля и небо в древнерусском искусстве». Потому что в числе тем и проблем, которые были очень важны для 1960-х, 1970-х, 1980-х годов, были те, которые были обронены тогда, на рубеже двух столетий, — древнерусское искусство, вопросы реставрации.
Поэтому, конечно, разговоры о религии были. Поскольку и для Саши Пятигорского, и для Мераба был очень важен вопрос богов. Кстати, потом уже, к 1980-м годам, Мераб очень заинтересовался отцом Александром Менем и общался с ним. Православие для него стало доминирующим. Он говорил о том, что такое вера для человека. Время делало усилие по возвращению абсолютных ценностей. Абсолютных ценностей в понятии чести и связи человека с чем-то.
Одной из самых главных функций и его, и Пятигорского, и Андрея Синявского было разрушение стереотипов сознания. Разрушение стереотипов представлений о мире, в котором ты живешь. Разрушение стереотипа поведения. Выйти из времени, выйти из поколения. И спланировать сверху в эту точку.
Об эмиграции
 Александр Пятигорский в Швеции. Фотография Людмилы Пятигорской.
Александр Пятигорский в Швеции. Фотография Людмилы Пятигорской. 2006 год svoboda.org
Когда люди начали уезжать, было ощущение конца прекрасной эпохи. В жизни, о которой я говорю, формирующим началом было общение. Это была не только дружба, но акт познания. И вот что-то главное в жизни кончилось, его больше не будет. Москва пустела. В ней не было Неизвестного, Пятигорского, Синявского. Помню, я у Мераба спросила: «А почему не уезжаете вы?» Он сказал: «Саше уезжать надо, а мне надо оставаться здесь, мне не надо».
Пятигорскому надо было уезжать, потому что он был пишущим человеком. Он написал «Жизнь Будды» в серии ЖЗЛ, но некому было ее печатать, и это сыграло свою роль в его отъезде. У него не было большой лекционной аудитории, он был исследователь, на Западе уже широко известный.
Его провожало очень небольшое количество людей. И лично я его не провожала. Но я знаю об одном эпизоде и от Мераба, и от Саши. Пограничники стали над ним глумиться, демонстративно распаковывать его чемодан. Что у Саши было, кроме одного костюма, еще одной пары брюк и каких-то нефирменных трусов? Таможенник это все со смаком ворошил в его убогом скарбе. Саша стоял, молчал. И когда все это закончилось, Саша этому пограничнику-таможеннику сказал: «Благодарю вас, молодой человек. Вы значительно облегчили мне прощание с родиной». Это достоинство было очень ценимо.
Последние комментарии Впечатления
На редкость удивительное произведение: с одной стороны, про любовь, глубокую и трепетную, а с другой, про силу воли, выдержку и целеустремленность. От истории невозможно было оторваться: читалась буквально на одном дыхании. Жаль, что сейчас так мало книг, которые берет за душу. А эта именно берет, даже скорее хватает и не отпускает! И в конце я плакала.
Потрясающая история, описывающая совершенно разные проявления любви. 
Во-первых, это любовь девушки к человеку, благодаря которому она стала личностью, который подарил ей себя и свою частичку. В-вторых, это безмерная любовь матери к своему ребенку, которого она будет защищать до последней капли крови. В-третьих, это новая любовь, вспыхнувшая совершенно неожиданно для героев, но которая помогла им справиться со всеми трудностями. А в-четвертых, это любовь и уважение к людям, которые этого достойны.
Подчас в нашей жизни не хватает любви, и тогда надо покопаться в себе: все ли правильно мы говорим или делаем. И на примере героини мы увидели, как надо бороться за свою жизнь, близких и дорогих людей!
Ну наконец то король. Остался император и бог. Xenos про Владимир Георгиевич Сорокин 04-11-2013
>lukmak: Ребятки, Сорокин - это авангард. Это не для каждого. А эти буквы оставьте понимающим.
Да-да, медитировать над свежей коровьей лепешкой, улавливая ноздрями миазмы сокровенного - это не для каждого. Копрофилия - дело сугубо индивидуальное. Тут мозги излишни, это обоняние нужно иметь.
И к авангарду ЭТО никакого не имеет. Вот "Чапаев-2" - это авангард, а Сорокин, судя по аромату - арьегард самый что ни на есть.
>snovaya. если у вас за такими упырями сотни тысяч на улицы выходят?
Уха мацы наслушался? Про "сотни тысяч"? Эти клоуны и в Москве нахрен никому не нужны, а за МКАДом про них вообще никто не знает. Xenos про Соломатина. Роддом. Сериал. Кадры 14–26 (Современная проза) 04-11-2013
>laurentina1: Муссируется мысль, что достаточно быть хорошим специалистом, а паола волкова биография семья больными можно быть суровым и резким. Сразу видно, что автор стоит с "другой" стороны.
Девонька, когда во время родов из роженицы начинает хлестать как из пожарного крана, некогда быть мягким и толерантным. Когда у нее из ушей сочатся гормоны, а в башке вместо мозга - манная каша, уговорами будущего ребенка не спасешь. Георг_73 про Гуков. Легионер [СИ] (Космическая фантастика) 04-11-2013
) гривны. в космической империи инопланетян деньги - гривны:))) Давно так не смеялся.
А вообще-то автор и не скрывает, что всё здесь написанное - глюк после употребления палёной водки. Хотя как вариант можно предположить, что качество водки тут не причём. И это у автора всего лишь приступ самой обычной белой горячки (в простонародье - "белочки").
Повествование ведется преимущественно от первого лица, и оно психологично в оптимальной для детектива степени - не до беспросветного потока эмоций, однако чувства Марка, чья жена была убита, а дочь - похищена, переданы хорошо.
Стиль мне также понравился, все события из прошлого и настоящего автор излагает простым языком, без многословия изящных словесных конструкций, тем не менее, он отлично умеет в нужным момент вызвать определенную эмоциональную реакцию или заставить ощутить атмосферу того или иного эпизода.
И сюжет - сюжет оказался весьма неплох. Сплошные загадки, наслаивающиеся одна на другую, прекрасно закрученная интрига и нетривиальная концовка. "Второго шанса не будет" - достойный представитель детективного жанра.
Слишком разухабисто. Не люблю дворовую "культуру" в литературе, её и в жизни переизбыток.
Книга и есть ответ, постоянно возникающий: почему в России у нас идет непрерывная война, без передышки, без того, чтобы задуматься - нужна ли эта бессмысленная грызня, и что она дает. Всех со всеми. Всех против. Даже не надо читать комменты к какому-либо тексту на политическую тему или историческую. Все изначально ясно. Тут же образуются два фронта, яростно друг друга ненавидящие. И как - для чего? - читать всю эту остобебенившую хрень - на соплях и ругани воздвигнутую?
Тут. Два товарища не поделили диссидентскую ветку, на которой, казалось, удобно до сих пор сидели. Результат - словесная война.
Это мы умеем. Воевать и ненавидеть. Большого ума не надо.
И ведь это не "битва гигантов", скажем, "патриота" с "западником", когда системы ценностей абсолютно противоположные. Нет, свой со своим бодались. И что? А ничего, как всегда.
По-моему, это худшая книга по EVE-Online. И хотя автор в аннотации сразу отмазался от EVE, дескать все совпадения случайны, но мы то знаем, если зверь с хвостом, покрыт шерстью и мяукает, то это кошка.
Паола
В пятницу, ближе к ночи, краем уха зацепил на «Культуре» сюжет, в котором шла речь о Паоле Волковой. Телеведущий нейтральным голосом что-то говорил о ее заслугах перед культурой: она вот этим занималась и другим занималась… Все так, - подумал я, но почему закадровый человек говорит о ней в прошедшем времени? Будто она умерла…
Не сразу до меня дошло, что она умерла.
Не до меня одного. Сеть довольно быстро запестрила изумленными восклицаниями ее друзей, знакомых, учеников, коллег: как? почему? неужели? О, господи!
***
Ушла из жизни Паола Дмитриевна Волкова – искусствовед, педагог, культуролог, историк изобразительного искусства, специалист по творчеству Андрея Тарковского, автор телевизионного цикла «Мост над бездной».
Эта новость, впрочем, не стала для наших главных телеканалов новостью, достойной того, чтобы о ней сообщить телезрителям в своих информационных выпусках. «Не по нашему ведомству», -- видимо, решили продюсеры новостных программ. И, в сущности, были правы, поскольку культура в принципе – не по их ведомству. Для них рейтинг -- мост над пропастью безвременья, а не Культура. А культовые и скандальные ньюсмейкеры – его несущие опоры. И уж когда дело касается судеб и драм не слишком публичных «мостостроителей», то и говорить не о чем…
***
Помню ее во ВГИКе. Она преподавала «изо». По возрасту она не сильно опережала нас – студентов. По стилю поведения, общения – тоже. За глаза мы ее именовали только по имени: Паола и Паола… Словно, она была нашей сверстницей. О ее отчестве мы вспоминали только на экзаменах и на зачетах. Но авторитет ее был высок и непререкаем. И не только из уважения к ее знаниям, к ее таланту вовлекать нас в предмет ею излагаемый. Она покоряла и веселой открытостью, и каким-то то ли врожденным, то ли благоприобретенным аристократическим чувством собственного достоинства.
А были мы в то время, как сейчас помню, довольно категоричными в оценках старшего поколения. Если не сказать, жестокими.
Аккуратно в то время прошел по экранам страны фильм «Живые и мертвые», и по ВГИКу тут же разлетелись списки педагогов. В левом столбике – «живые», в правом – «мертвые». Списки часто не совпадали. Какие-то фамилии кочевали из номинации в номинацию. Одно было неизменно: во всех списках «живыми» значились Владимир Бахмутский, Георгий Кнабе, Ольга Ильинская, Николай Третьяков и Паола Волкова. Все они были яркими звездами преподавательской когорты во ВГИКе. Их всех уже, увы, нет. Иных – давно. Других – недавно.
Вот и Паолы только что не стало. Она последняя ушла из той плеяды вгиковских мастеров, что возводили «мост» над идеологической мертвечиной соцреализма.
Оглядываясь, я завидую себе и своим сокурсникам, и всем, кому она читала лекции. Заглядывая вперед, сочувствую тем, кто уже не услышит их. Одно, хоть в какой-то степени, утешает. Остались ее книги. Остался телецикл – «Мост над бездной».
Говорил и готов повторить: такого глубокого и внятного исследования в области живописи на нашем ТВ еще не было. И, следуя за ее повествованием, невозможно не поддаться магии сосредоточенного размышления, столь редкого и столь необходимого для сохранения того, что Лотман называл "экологией человеческого общества».
Сейчас думаю: чем были для меня ее лекции? Тем, пожалуй, что она давала представление об изобразительном искусстве, как о некоем мегасюжете. Целостном и логичном.
В субботу «Культура», переверстав сетку вещания, нашла возможность повторить его.
Увы, ее «Мост над бездной» остался неоконченным.
Потому и жизнь ее кажется неоконченной. Внезапно оборвавшейся. Хотя ей уже перевалило за 80. А все равно все знавшие ее ахнули: как? почему? Не возможно поверить..
…Ведь она только что вернулась из вечного города Рима совершенно счастливой. И у нее столько было планов…
Я расскажу вам о Паоле Волковой. Теперь прошел год, как ее не стало, и мы ее друзья, ученики (она читала историю искусств во ВГИКе и на Высших сценарных и режиссерских курсах), читатели ее книг о мировой культуре, о Тарковском, о Тонино Гуэрре и зрители ее программ на телеканале «Культура» вспоминаем эту женщину с радостью и удивлением.
Я расскажу вам о Паоле Волковой. О ней писать мне как-то не с руки, не тот жанр, а рассказать — пожалуй. Тем более что она была блестяща в беседе. Теперь прошел год, как ее не стало, и мы — ее друзья, ученики (она читала историю искусств во ВГИКе и на Высших сценарных и режиссерских курсах), читатели ее книг о мировой культуре, о Тарковском, о Тонино Гуэрре и зрители ее программ на телеканале «Культура» — вспоминаем эту женщину с радостью и удивлением. На девятом десятке лет она оставалась равноправным и равносильным партнером любой «высокой» компании. Нет, какой там «равносильным»… За ней надо было тянуться, чтоб не потерять ее расположения и интереса.
Мы познакомились с Паолой Волковой у Тонино Гуэрры.
Она рассказывала, что учила почти всех кинематографистов (кто хоть чему-нибудь учился), и я обнаружил, что она очень много знает и свободно оперирует знаниями. Я оказался для нее благодатным материалом, потому что памяти у меня нет, и она мне могла рассказать историю, потом через месяц-полтора опять тот же сюжет, и я с большим интересом слушал. Потом она спохватывалась:
— Я же вам это рассказывала.
— Да. Но я все равно ничего не запомнил, так что в следующий раз вы опять можете все повторить.
Так мы с ней общались.
Паола Дмитриевна никогда не выглядела приблизительно. Она знала, что ей идет, и как бы невзначай надевала все то, что точно шло ей, но при этом говорила: «Я так похудела, просто нечего носить».
Стремление быть в форме очень роднило их с Тонино Гуэррой. Он всю жизнь выходил к завтраку: пиджак, пуловер, рубашка, ну, естественно, брюки вельветовые, очень часто красивые, и ботинки, отчего-то с белыми шнурками. Словом, он всегда был одет. Может быть, стирал таким образом свое крестьянское происхождение… А происхождение Паолы мне неведомо. Хотя она часто рассказывала сюжеты про знакомых ей удивительных и знаменитых мужчин. Она была чрезвычайно склонна к игре, но до какого уровня, я не знаю. Точно так же как Паола Дмитриевна рассказывала о бесчисленном количестве поклонников, она, как бы в порядке немедленного схождения с пути порока, тут же вспоминала, как любила мужа. Причем это могло быть в одной фразе.
Она жила вне времени не в том смысле, что вне нашего времени, а вообще вне границ Времени. Она спокойно оперировала историческими фактами. У нее был феноменальная память, и знания ее не обременяли. Как старый троечник, я понимал, что идти на экзамены, в каком бы институте ни учился, а я учился в разных, надо, либо зная все, либо не зная ничего. Зная все — ты свободен, потому что можешь свободно пользоваться информацией. Не зная ничего — свободен, поскольку тебе все равно, о чем врать. Я даже помню позорное свое сдавание в университете иностранной литературы, связанное с Рабле. Но потом я так Рабле полюбил, что даже брал его в путешествия. И могу цитировать разговор Панурга с Труйоганом с огромным удовольствием. Там ключевой вопрос, который мы тоже обсуждали с Паолой Дмитриевной, — жениться Панургу или не жениться. То есть делать или не делать, быть или не быть. И когда Труйоган сказал: «Ни то ни другое, но: и то и другое» — я понял, что он настоящий философ.
О философах у нее тоже было свое представление, потому что она дружила с Мерабом Мамардашвили и с Александром Пятигорским. Мне повезло, что у нас возникали общие знакомые. Не общих знакомых я опасался. Она ревностно относилась ко всем связям, которые не касались ее лично или ее друзей. Друзья за пределами Паолиного ареала были опасны. Они могли привести неизвестно куда, а главное, увести от Паолы. А она очень дорожила кругом. Когда я увидел у нее портрет Мамардашвили и сказал, что я с Мерабом был дружен, у нас с Волковой появилась еще одна чрезвычайно важная тема для разговоров. Если бы у меня была память, как у Паолы, я бы мог написать довольно большую работу о нем, потому что мы летели из Америки двенадцать часов и разговаривали. Собственно, он разговаривал. А я пытался понять его — и понимал, но, увы, я не мог бы воспроизвести.
Паола и Мамардашвили были связаны внутренним пониманием жизни. Возможно, она тоже была благодарным слушателем, потому что едва ли она могла поддерживать споры о глубоких философских идеях. В философских спорах обязательно нужно быть отчасти грузином, потому что грузин начинает партию в беседе со слова «ара». Это значит — «нет», а потом уже все, что думаешь. То есть нужно сопротивляться.
Паола, как мне кажется, не хотела сопротивляться, она хотела поддаваться. Она прекрасно понимала: так она больше узнает… Она могла сказать слова неприятия, но порой выполняла обязательства, которые ей были в тягость. И лекции, бывало, ей не хотелось читать, но она читала, чтобы продолжать отношения с добрыми людьми. И по данному слову делала не очень обязательные книжки... А хотелось делать другие. Так и не успела Паола Дмитриевна написать те тексты, которые по-настоящему были бы ее. Ну, например вторую часть замечательного «Моста через бездну». И не написала «Мое Садовое кольцо». А это были бы чрезвычайно ценные воспоминания, целая жизнь людей, которых она знала, — невероятно наблюдательная, ироничная, смешливая, любившая и понимавшая жизнь, восьмидесятилетняя молодая женщина.
Смеялась она хриплым громким смехом. Порой в неожиданных местах.
— А что, собственно, такого смешного вы услышали?
— Ну как же: это так, а это так!
И я понимал, что это действительно может быть смешно. Она не была скрытной, но была бережливой. Она берегла все, что в ней было. И, кажется, она не вполне понимала, что она сама по себе такой бриллиант, который хочется каждому приложить к себе. Ей обязательно надо было заинтересовать собой людей. Она считала, что если будет рассказывать истории про барокко, Возрождение, русские иконы, Древнюю Грецию, модерн, или про друзей и общих знакомых, она будет цементировать свои компании. Хотела всех передружить.
Если ты неосторожно называл какую-нибудь известную фамилию приличного человека в искусстве, то обязательно оказывалось, что Волкова либо его учила, либо с ним училась, либо с ним работала, либо она ему помогала. И самое поразительное, что это все было правдой.
Паола Дмитриевна Волкова не была ученым-искусствоведом… Она, скорее, была внедрителем культуры, то есть она продвигала ее в массы. В массы кинематографистов во ВГИКе или на Высших курсах, а те уже распространяли. Она была на связи с людьми молодыми, много моложе ее, и потому выработала в себе манеру осовремениваться. Даже ученики воспринимали Паолу не как классную даму (в любом смысле), а как любимую подругу или подружку (там какая-то разница есть) и подмигивали друг другу в разговоре. Но самое-то любопытное, что и она подмигивала сама себе. Все, радуясь, играли друг с другом.
Однажды я смотрел балет с Плисецкой, может быть, «Лебедя»… Прима закончила движение рукой, и я вдруг увидел след этого движения. Он был не в том воздухе, которым мы дышали, и не на той сцене, где она танцевала, а в пространстве, которое у меня внутри. Так случается не только в искусстве: человек умно закончил блестящую мысль, повернулся и ушел. Ты не помнишь ее в точности, но чувствуешь — это нечто сделало тебя богаче, может быть, чуть лучше, может быть, точнее.
После Паолы Волковой останется след этого веселого образовывающего дружелюбия. Может быть, еще лукавой откровенности. Потому что она была бы не женщина, если б не лукавила, она любила притворяться и, кажется, была мистификатором на гонораре. Гонораром была радость, которую она доставляла себе и другим.
Там, где теперь Паола, очень много народу, и, наверное, можно потеряться, но я стопроцентно уверен, что Паола всех знакомых найдет. Она со всеми передружится. И будет очень нужна. Правда, ей сказали, что там нельзя выпивать, как она привыкла в компании, это ее расстроило. Зато беседовать можно сколько угодно.
Впрочем, я не думаю, что друзья уходят, чтобы нас там дождаться. Здесь надо жить и здесь надо быть человеком. Нечего рассчитывать на то, что когда-нибудь ты отмолишь свои грехи и будешь потом комфортно себя чувствовать. Паола Дмитриевна была безупречна, как все люди, которых мы любим и к которым при жизни мы предъявляем повышенные претензии. А упрекнуть можно лишь самого себя за то, что ты не полностью распознал их.
Бог даровал забвение именно для того, чтобы человек вспоминал.
Любовь Аркус
Вчера прошло 9 дней со смерти легендарного искусствоведа и педагога. О Паоле Волковой вспоминает ЛЮБОВЬ АРКУС
Первый курс во ВГИКе я училась на заочном, изо у нас преподавала Паола Дмитриевна Волкова.
В мертвом уже, бездарном ВГИКе, где правили одуревшие чиновники, а учились в основном их дети или дети их начальников, ей было скучно. По коридорам этой лилипутии она плыла медленно и важно, в чем-то всегда балахонистом, в бусах, монистах, серьгах, шалях - неся свою скуку как знамя, как знак нездешности и избранничества.

Ей было скучно и в тот день, когда я впервые ее увидела, - заочники, чужие люди. Что-то шелестела, глядя в окно, медленно ломая пальцы, унизанные кольцами. Но то, что удавалось расслышать, было настолько завораживающим, что хотелось любой ценой расслышать все и поймать ее взгляд. Я задала какой-то вопрос. Она поморщилась, как от головной боли, - вопрос выдавал неизлечимое навсегда невежество.
Но мне было не обидно, пусть и такой ценой - контакт был достигнут, в тусклом голосе от раздражения прибавилось энергии, теперь она пристукивала кольцами по столу, объясняя свою мысль, и потрясающий ее рассказ о древнерусской архитектуре из лениво оброненных, разрозненных перлов на глазах превращался в гениальное эссе, которому позавидовал бы хоть Волынский, хоть Гершензон, хоть Эфрос.
Странно. Из всех ее лекций наизусть я помню только одну фразу: «Современная архитектура структурирует трагическое пространство». Но очень надолго многое, что я понимала и чувствовала про архитектуру вообще и современность в частности, определялось этим, случайно застрявшим в памяти и наверняка не самым главным, соображением - из тех, что она высказывала в своих лекциях.
Благодаря ей, Майе Иосифовне Туровской и Владимиру Яковлевичу Бахмутскому я поняла, что такое настоящий педагог. Это совсем не тот человек, что дает тебе знания - только ты сам можешь их добыть. И не тот, что дает тебе умения - только ты сам можешь обрести их с собственным опытом. Это человек, который однажды задает тебе систему координат и угол зрения. Верх-низ, лево-право. Общий план - средний план - крупный план - вид сверху. Угол зрения может меняться, и картина мира может меняться также, и они непременно меняются в деталях и частностях или даже в главном... Но если однажды они возникли и устоялись в твоей голове, мир уже не рассыплется на несоединимые осколки, а будет всякий раз переукладываться в некий порядок - порядок слов, порядок вещей, порядок смыслов.
О ее вкладе в искусствоведение, в изучение наследия Тарковского напишут и скажут те, кто хорошо и близко знает эти предметы. Я же скажу, что даже в тех, кто, как я, услышал десяток ее лекций, она сумела вбросить щепоть того самого волшебного вещества, которое из событий, впечатлений, ощущений образует смыслы.
Помимо неоспоримого дара Учителя и гуру она, мне кажется, в иные времена была бы отменной хозяйкой салона, в котором блистают вертопрахи, острословы, меценаты и - конечно же! - молодые гении. Она была рождена их угадывать, им покровительствовать, их вдохновлять.
Со стороны она вызывала нежное восхищение, как всякий мощный человек, неуместный в сужденных ему времени и пространстве.