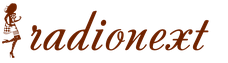За тёмной прядью перелесиц. «За темной прядью перелесиц…» С
«За темной прядью перелесиц…» Сергей Есенин
За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненочек кудрявый - месяц
Гуляет в голубой траве.
В затихшем озере с осокой
Бодаются его рога, -
И кажется с тропы далекой -
Вода качает берега.
А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым
И за долинами по склонам
Свивает полымя над ним.
О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.
И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.
Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.
Анализ стихотворения Есенина «За темной прядью перелесиц…»
Уже с первых лет жизни в Москве Сергей Есенин снискал славу сельского поэта. Столичные ценители литературы относились к нему с предубеждением, считая, что творчество Есенина совершенно лишено актуальности. Тем не менее, очень скоро у поэта появились свои почитатели, которые смогли разглядеть среди простых и незатейливых фраз образ той России, которая им дорога, близка и понятна.
Столица произвела на Есенина противоречивое впечатление. С одной стороны, они восхищался высотными зданиями и очень быстро освоился в московских ресторанах. Но постоянная суета и отчужденность людей пугали поэта. Поэтому мысленно он предпочитал каждый раз возвращаться в родное село и все свои стихи посвящал старинному рязанскому краю, который так любил с самого детства. В этот период (1914 год) было написано и стихотворение «За темной прядью перелесиц…», которое стало еще одним ярким штрихом к портрету русской природы – самобытной, яркой и удивительно красивой.
Для творчества Есенина характерны образность и стремление наделить чертами живых людей неодушевленные предметы. Именно поэтому месяц у поэта ассоциируется с кудрявым ягненочком, который «гуляет в голубой траве», а «вода качает берега» из-за того, что это небесное светило словно бы бодается рогами с речной осокой. Таким образом, незатейливый пейзаж Есенин наполняет особым волшебством и очарованием, придавая каждой мелочи смысл. Его пейзажи легки, словно «черемуховый дым», который опускается над русской степью, по-весеннему зеленой и благоухающей.
Леса и луга являются для поэта лучшими друзьями, им Есенин поверяет все свои самые сокровенные мысли и желания. Однако и автор умеет слушать, различая в шелесте листьев изысканную мелодию приближающегося лета . Удивительная метафоричность, свойственная многих стихам Есенина, порождает очень запоминающиеся образы. Так, поэт с равным успехом называет рощей не только скопление берез у края поля, но и заросли ковыля – степной травы, которая уже к середине лета высыхает, превращаясь в колючую и непроходимую стену. Но сейчас, пока ковыль еще набирает соки, поэт искренне восхищается «пущей», признаваясь: «Ты сердцу ровностью близка». Тем не менее, даже в этом зеленом ковре автор видит изъяны в виде островков солончака, которые навевают на него тоскливые мысли.
Автор прибегает к довольно распространенному приему, вживаясь в образ героев своего повествования. Однако ситуация необычна тем, что Есенин повествует о русской степи и примеривает на себя ее внешний антураж. Если бы зеленый ковыль был одушевленным предметом и умел бы говорить, то наверняка смог бы поведать о том, что испытывает, находясь весь день под жарким весенним солнцем. Его мысли озвучивает сам автор, утверждая, что ковыль тоскует о розовом небе и «голубиных облаках». При этом Есенин проводит параллель между собой и героем стихотворения, утверждая, что в данный момент испытывает подобные чувства, пребывая «в печальной требе». Он стремится к заоблачным высотам, но осознает, что то, о чем мечтает, является для него недостижимым.
Вместо небесно выси ковылю достаются «кандалы твоей Сибири и горб Уральского хребта». То же самое получает и поэт, для которого родина ассоциируется не только с красотой окружающей природы, но и с рабским крестьянским трудом . Попытки убежать от детских воспоминаний в этом случае не дают результата, так как Есенин все равно остается сном своего народа. Он с детства лелеет мечту о возвышенном, но вынужден довольствоваться земным, уподобляясь степному ковылю, чья жизнь лишена взлетов и падений.
Дикое Поле
1
Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны…
Ширь земли да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Тёмная Киммерийская степь.
Вся могильниками покрыта –
Без имян, без конца, без числа…
Вся копытом да копьями взрыта,
Костью сеяна, кровью полита,
Да народной тугой поросла.
Только ветр закаспийских угорий
Мутит воды степных лукоморий,
Плещет, рыщет – развалист и хляб
По оврагам, увалам, излогам,
По немеряным скифским дорогам
Меж курганов да каменных баб.
Вихрит вихрями клочья бурьяна,
И гудит, и звенит, и поёт…
Эти поприща – дно океана,
От великих обсякшее вод.
Распалял их полуденный огнь,
Индевела заречная синь…
Да ползла желтолицая погань
Азиатских бездонных пустынь.
За хазарами шли печенеги,
Ржали кони, пестрели шатры,
Пред рассветом скрипели телеги,
По ночам разгорались костры,
Раздувались обозами тропы
Перегруженных степей,
На зубчатые стены Европы
Низвергались внезапно потопы
Колченогих, раскосых людей,
И орлы на Равеннских воротах
Исчезали в водоворотах
Всадников и лошадей.
Много было их – люты, хоробры,
Но исчезли, «изникли, как обры»,
В тёмной распре улусов и ханств,
И смерчи, что росли и сшибались,
Разошлись, растеклись, растерялись
Средь степных безысходных пространств.
Долго Русь раздирали по клочьям
И усобицы, и татарва.
Но в лесах по речным узорочьям
Завязалась узлом Москва.
Кремль, овеянный сказочной славой,
Встал в парче облачений и риз,
Белокаменный и златоглавый
Над скудою закуренных изб.
Отразился в лазоревой ленте,
Развитой по лугам-муравам,
Аристотелем Фиоравенти
На Москва-реке строенный храм.
И московские Иоанны
На татарские веси и страны
Наложили тяжелую пядь
И пятой наступили на степи…
От кремлёвских тугих благолепий
Стало трудно в Москве дышать.
Голытьбу с тесноты да с неволи
Потянуло на Дикое Поле
Под высокий степной небосклон:
С топором, да с косой, да с оралом
Уходили на север – к Уралам,
Убегали на Волгу, за Дон.
Их разлёт был широк и несвязен:
Жгли, рубили, взымали ясак.
Правил парус на Персию Разин,
И Сибирь покорял Ермак.
С Беломорья до Приазовья
Подымались на клич удальцов
Воровские круги понизовья
Да концы вечевых городов.
Лишь Никола-Угодник, Егорий –
Волчий пастырь – строитель земли –
Знают были пустынь и поморий,
Где казацкие кости легли.
Русь! встречай роковые годины:
Разверзаются снова пучины
Неизжитых тобою страстей,
И старинное пламя усобиц
Лижет ризы твоих Богородиц
На оградах Печёрских церквей.
Всё, что было, повторится ныне…
И опять затуманится ширь,
И останутся двое в пустыне –
В небе – Бог, на земле – богатырь.
Эх, не выпить до дна нашей воли,
Не связать нас в единую цепь.
Широко наше Дикое Поле,
Глубока наша скифская степь.
<1916>
Примечания
Стихотворение выделялось критикой. Одним из первых обратил на него внимание Д. Н. Семеновский, который отметил «тонкую наблюдательность» автора и в доказательство привел вторую строфу стихотворения (газета «Рабочий край», Иваново-Вознесенск, 1918, 20 июля, № 110). К. В. Мочульский видел в стихотворении пример использования Есениным метафор: «Излюбленный - и быть может единственный - прием, которым оперирует Есенин - метафора. Он как специализировался на нем. У него огромное словесное воображение, он любит эффекты, неожиданные сопоставления и трюки. Здесь он - неисчерпаем, часто остроумен, всегда дерзок. Мифология первобытного народа должна отражать его быт, об этой „апперцепции“ говорится и в учебниках психологии и в учебниках эстетики. Скотовод воспринимает мироздание сквозь свое стадо. У Есенина это проведено систематически». Приведя многочисленные примеры из этого («ягненочек кудрявый месяц») и других стихотворений («Голубень» , «Не напрасно дули ветры...» , «Тучи с ожерёба...» , «Хулиган» , «Осень» и др.), критик заключал: «Острота этого, я сказал бы, зоологического претворения мира, притупляется очень скоро. Удивляешься изобретательности, но когда узнаешь, что и ветер тоже „рыжий“, только не жеребенок, а осленок, это уже перестает радовать» (газета «Звено», Париж, 1923, 3 сентября, № 31).
Яркий пример цветописи увидел в стихотворении Р.Б.Гуль:
«Второй дар крестьянского поэта - живопись словом .
Есть поэты и прозаики, воспринимающие звуковую сторону слова в ущерб второй сущности его - „цвету“. Наиболее определенен здесь Андрей Белый. У Есенина почти обратное. „Цвет“ доведен до необычайной, в глаза бьющей яркости. Он ворожит цветами. Образы его по краскам удивительны. Но в этом нет дисгармонии. Живопись в дружбе с органической песенностью.
Поэтический штандарт Есенина - сине-голубой с золотом. Это любимый есенинский цвет. Цвет русского неба, деревенской тоски от окружающей бескрайности. Без этого цвета у него нет почти ни одного стихотворения. И в этих цветах я издавал бы все его книги.
„Голубая Русь“, „голубая осина“, „вечер голубой“, „голубые двери дня“, „голубизна незримых кущ“, „заголубели долы“, „синий лязг“, „синь сосет глаза“, „синий плат небес“, „синяя гать“, „неколебимая синева“, „синяя гуща“, „синий вечер“, „равнинная синь“, „синь во взорах“, „синяя мгла“, „синеющий залив“, „синий лебедь“.
Синим цветом залито все. И всегда он в отделке с золотом звезд, зорь, заката, золотых осин»,- писал критик и далее цитировал данное стихотворение (Нак., 1923, 21 октября, № 466).
Критики вульгарно-социологического и пролеткультовского толка трактовали стихотворение как «взгляд хозяйчика», «домовитого кулачка» и т.п. Явно имея в виду подобные суждения, А.П.Селивановский в статье «Москва кабацкая и Русь советская» писал о дореволюционных стихах поэта: «Правда, он видел в мире не только голубые звоны. Уже тогда другие мотивы прорезали тишину деревенских полей. Сквозь „черную прядь перелесиц“, сквозь степь, качающую над пологом зеленым „черемуховый дым“, он чувствовал вековой гнет, сковавший деревню, тяжесть оков царизма, опутавших ее по рукам и ногам». Процитировав две последние строфы стихотворения, он заключал: «Бежали от этих кандалов крестьянские парни в лес, на большую дорогу, уходили „в разбойники“. Недаром многие из старых русских писателей-революционеров считали разбойника национально-русским типом» (журнал «Забой», Артемовск, 1925, № 7, апрель, с. 15).
Январь 1918 года. Это время особенно привлекает исследователей творчества Александра Блока, потому что именно тогда была создана поэма «Двенадцать», которой крупнейший поэт конца XIX века приветствовал наступление новой эпохи. В январе 1918 года Блок переживал высший подъем революционного настроения. «Двенадцать», «Скифы», статья «Интеллигенция и революция» - ярчайшее тому свидетельство.
Последние страницы второй книги «Жизни Арсеньева» посвящены поре мужания юного Арсеньева. Удивительная зоркость, тонкое обоняние, совершенный слух открывают перед юношей все новые красоты природы, все новые сочетания между ее компонентами, все новые и прекрасные формы ее созревания, весеннего расцвета.
Почему же только месяц, когда я прожил в Ташкенте не менее трех лет? Да потому, что для меня тот месяц был особенным. Сорок три года спустя возникла непростая задача вспомнить далекие дни, когда люди не по своей воле покидали родные места: шла война! С большой неохотой переместился я в Ташкент из Москвы, Анна Ахматова - из блокадного Ленинграда. Так уж получилось: и она, и я - коренные петербуржцы, а познакомились за много тысяч километров от родного города. И произошло это совсем не в первые месяцы после приезда.