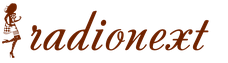Автор работы бунтующий человек. Философская анатомия бунта
Страница 12 из 15
«Бунтующий человек»
«Бунтующий человек» - это история идеи бунта - метафизического и политического - против несправедливости человеческого удела. Если первым вопросом «Мифа о Сизифе» был вопрос о допустимости самоубийства, то эта работа начинается с вопроса справедливости убийства. Люди во все времена убивали друг друга, - это истина факта. Тот кто убивает в порыве страсти, предстает пред судом, иногда отправляется на гильотину. Но сегодня подлинную угрозу представляют не эти преступные одиночки, а государственные чиновники, хладнокровно отправляющие на смерть миллионы людей, оправдывающие массовые убийства интересами нации, государственной безопасности, прогресса человечества, логикой истории.
Человек 20-го века оказался перед лицом тоталитарных идеологий, служащих оправданием убийства. Еще Паскаль в «Провинциальных письмах» возмущался казуистикой иезуитов, разрешавших убийство вопреки христианской заповеди. Безусловно, все церкви благословляли войны, казнили еретиков, но каждый христианин все-таки знал, что на скрижалях начертано «не убий», что убийство - тягчайший грех. На скрижалях нашего века написано: «Убивай». Камю в «Бунтующем человеке» прослеживает генеалогию этой максимы современной идеологии. Проблема заключается в том, что сами эти идеологии родились из идеи бунта, преобразившейся в нигилистское «все дозволено».
Камю считал, что исходный пункт его философии остался прежним - это абсурд, ставящий под сомнение все ценности. Абсурд, по его мнению, запрещает не только самоубийство, но и убийство, поскольку уничтожение себе подобного означает покушение на уникальный источник смысла, каковым является смысл каждого человека. Однако из абсурдной установки «Мифа о Сизифе» не вытекает бунт, утверждающий самоценность другого. Бунт там придавал цену индивидуальной жизни - это «борьба интеллекта с превосходящей его реальностью», «зрелище человеческой гордыни», «отказ от примирения». Борьба с «чумой» тогда ничуть не более обоснована, чем донжуанство или кровавое своеволие Калигулы. В дальнейшем у Камю меняется само содержание понятий «абсурд» и «бунт», поскольку из рождается уже не индивидуалистический мятеж, а требование человеческой солидарности, общего для всех людей смысла существования. Бунтарь встает с колен, говорит «нет» угнетателю, проводит границу, с которой отныне должен считаться тот, кто полагал себя господином. Отказ от рабского удела одновременно утверждает свободу, равенство и человеческое достоинство каждого. Однако мятежный раб может сам перейти этот предел, он желает сделаться господином и бунт превращается в кровавую диктатуру. В прошлом по мнению Камю, революционное движение «никогда реально не отрывалось от своих моральных, евангелических и идеалистических корней». Сегодня политический бунт соединился с метафизическим, освободившим современного человека от всех ценностей, а потому он и выливается в тиранию. Сам по себе метафизический бунт также имеет оправдание, пока восстание против небесного всевластного Демиурга означает отказ от примирения со своим уделом, утверждение достоинства земного существования. Он превращается в отрицание всех ценностей и выливается в зверское своеволие, когда бунтарь сам делается «человекобогом», унаследовавшего у отринутого им божества все то, что так ненавидел - абсолютизм, претензии на последнюю и окончательную истину («истина одна, заблуждений много»), провиденциализм, всезнание, слова «заставьте их войти». В земной рай этот выродившийся Прометей готов загонять силою, а при малейшем сопротивление готов устроить такой террор, в сравнении с которыми костры инквизиции кажутся детской забавой.
Такое соединение метафизического бунта с историческим было опосредовано «немецкой идеологией». В разгар работы над «Бунтующим человеком» Камю говорил, что «злые гении Европы носят имена философов: их зовут Гегель, Маркс и Ницше... Мы живем в их Европе, в Европе, ими созданной». Несмотря на очевидные различия в воззрениях этих мыслителей (а также Фейербаха, Штирнера), Камю объединяет их в «немецкую идеологию», породившую современный нигилизм.
Чтобы понять основания, по которым эти мыслители были включены в ряд «злых гениев», необходимо, во-первых, вспомнить об общественно-политической ситуации, во-вторых, понять, под каким углом зрения рассматриваются их теории.
Камю писал «Бунтующего человека» в 1950 г., когда сталинская система, казалось, достигла апогея своего могущества, а марксистское учение превратилось в государственную идеологию. В Восточной Европе шли политические судилища, из СССР доходили сведения о миллионах заключенных; только что эта система распространилась на Китай, началась война в Корее - в любой момент она могла вспыхнуть в Европе. Политические воззрения Камю изменились к концу 40-х годов, о революции он более не помышляет, поскольку за нее в Европе пришлось бы платить десятками миллионов жертв (если не гибелью всего человечества в мировой войне). Необходимы постепенные реформы - Камю оставался сторонником социализма, он равно высоко ставил деятельность тред-юнионов, скандинавской социал-демократии и «либертарного социализма». В обоих случаях социалисты стремятся освободить ныне живущего человека, а не призывают жертвовать жизнями нескольких поколений ради какого-то рая земного. Такая жертва не приближает, а отдаляет «царство человека» - путем ликвидации свободы, насаждения тоталитарных режимов к нему нет доступа.
Камю допускает немало неточностей в толковании воззрений Гегеля, Маркса, но видение классиков вполне объяснимо. Он рассматривает именно те их идеи, которые вошли в сталинский «канон», пропагандировались как единственно верное учение, использовались для обоснования бюрократического централизма и «вождизма». Кроме того, он ведет полемику с Мерло-Понти и Сартром, взявшимися оправдывать тоталитаризм с помощью гегелевской «Феноменологии духа», учения о «тотальности истории». История перестает быть учительницей жизни, она делается неуловимым идолом, которому приносятся все новые жертвы. Трансцендентные ценности растворяются в историческом становлении, законы экономики сами влекут человечество в рай земной, но в то же время они требуют уничтожения всех, кто им противится.
Пробужденное сознание показывает человеку абсурдность бытия, непонятность и несправедливость человеческого удела. Это порождает бунт, цель которого - преображение, а значит - действие. Основной мотив бунта, по словам Камю, заключается в том, что "человек - единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть".
Наиболее значимой работой Альбера Камю, в которой раскрывается идея бунта, является книга "Бунтующий человек" (или "Бунтарь"). Эта книга - история идеи бунта против несправедливости человеческого удела. Бунт предстает как требование человеческой солидарности, общего для всех людей смысла существования. Бунтарь встает с колен, говорит "нет" угнетателю, проводит границу, с которой отныне должен считаться тот, кто полагал себя господином, и через которую он ранее допускал проникновение в свою жизнь негативных обстоятельств.
Начиная исследование понятия бунта, Камю сопоставил бунт и понятие убийства. Он задается вопросом об оправданности убийства. Камю считал, что исходный пункт его философии остался прежним - это абсурд, ставящий под сомнение все ценности. Абсурд, по его мнению, запрещает не только самоубийство, но и убийство, поскольку уничтожение себе подобного означает покушение на уникальный источник смысла, каковым является жизнь каждого человека. Бунт же несет в себе созидательное начало. Таким образом, бунт и убийство логически противоречат друг другу. Совершив убийство, бунтовщик раскалывает мир, разрушая те самые общность и единство людей.
Бунт безусловно предполагает в себе определенную ценность. Во-первых, бунтующий человек противопоставляет все то, что для него ценно, тому, что таковым не является. Приводя пример бунта раба против своего господина, Камю приходит к выводу, что раб восстает против прежнего порядка, в котором отрицается нечто, присущее сообществу всех угнетенных людей. Сам по себе индивид не является той ценностью, которую он намерен защищать. Эту ценность составляют все люди вообще.
При этом Камю отличает понятия бунт и озлобленность. Озлобленность вызывается завистью и всегда направлена против объекта зависти. Бунт же, напротив, стремится к защите личности. Восставший защищает себя, каков он есть, целостность своей личности, стремится заставить уважать себя. Таким образом, делает вывод Камю, озлобленность несет в себе негативное начало, бунт - позитивное. Автор этой мыслью выражает свое несогласие с некоторыми философами, отождествлявшими бунтарский дух и озлобленность.
В своей работе Камю отмечает, что бунт невозможен в обществах, где неравенство слишком велико (например, кастовые общества) или равенство абсолютно (некоторые первобытные общества). Автор подчеркивает, что бунт возможен в тех обществах, где за теоретическим равенством скрывается огромное фактическое неравенство.
Осознание абсурдности бытия и неразумности мира является первопричиной бунта. Однако, если в опыте абсурда страдание индивидуально, то в бунтарском порыве оно сознает себя как коллективное. Оно оказывается общей участью, пишет Камю.
Исследуя понятие бунта, Камю выделяет ряд разновидностей бунта и определяет характерные особенности каждой из них.
1. Метафизический (философский) бунт представляет собой восстание человека против своего удела и против всего мироздания. Яркий пример - раб, восставший против своего господина и своего рабского положения. То есть метафизический бунтарь бунтует против удела, уготованного ему как отдельному индивиду. Он как бы выражает таким образом, что обманут и обделен самим мирозданием.
Камю указывает на одну интересную особенность. Раб, протестуя против господина, тем самым одновременно и признает существование господина и его власти. Так же и метафизический бунтарь, выступая против силы, определяющей его смертную природу, вместе с тем и утверждает существование этой силы. Таким образом, такой бунт не отрицает высшую силу, а, признавая ее, бросает ей вызов.
2. Исторический бунт - бунт, основная цель которого, по мнению Камю, это свобода и справедливость. Исторический бунт стремится предоставить человеку царствование во времени, в истории. Камю утверждает, что сегодняшняя история с ее распрями вынуждает людей признать, что бунт - одно из существенных измерений человека. Он является исторической реальностью человечества, от которой не следует бежать.
Камю сразу разделяет понятия бунт и революция. Он считает, что революция начинается с идеи, в то время как бунт представляет собой движение от индивидуального опыта к идее. Изучая исторические факты, он говорит о том, что бунт - явление, в котором человек стихийно пытается найти выход из своего "сизифова положения". Поэтому писатель не признает организованную, подготовленную революцию, считая ее противоречащей своему понятию. Также он считает иллюзорной всякую надежду на то, что революция может действительно дать выход из ситуации, которой она вызвана. Кроме того, писатель считает, что революции в ее подлинном значении человечество еще не знало, поскольку подлинная революция ставит целью всеобщее единство и окончательное завершение истории. Происходившие же до сих пор революции приводили лишь к замене одного политического строя другим. Даже начинавшаяся как экономическая, любая революция в итоге становилась политической. И в этом также заключается отличие революции от бунта.
Кроме того, революция и бунт преследуют различные цели. Революция предполагает использование человека как материала для истории. Бунт же утверждает независимость человека и человеческой природы. Бунт исходит из отрицания во имя утверждения, а революция - из абсолютного отрицания.
Таким образом, бунт (как уже говорилось выше) в отличие от революции созидателен. Он предполагает, что человечество должно жить ради созидания того, чем оно является.
3. Бунт в искусстве представляет собой бунт, который заключает в себе творчество. Этот бунт проявляется в одновременном отрицании и утверждении: творчество отрицает мир за то, чего ему недостает, но отрицает во имя того, чем мир хотя бы иногда является.
Бунт в искусстве, по мнению Камю, это созидатель вселенной. Любой творец своими работами преображает мир, как бы указывая на несовершенство этого мира. По мнению Камю, искусство спорит с действительностью, но не избегает ее. Однако писатель указывает и на неизбежность существования творчества: "Если бы мир был ясным, в нем не было бы искусства".
Камю находит ограничения бунта в самом человеке, вышедшем из страданий и вынесшем из них бунт и солидарность. Такой человек знает о своих правах, выражает в бунте свое человеческое измерение и сознание неустранимости трагизма человеческого существования. Протест против человеческого удела всегда обречен на частичное поражение, но он так же необходим человеку, как собственный труд - Сизифу.
ЖАНУ ГРЕНЬЕ
И сердце
Открыто отдалось суровой
Страдающей земле, и часто ночью
В священном мраке клялся я тебе
Любить ее бестрепетно до смерти,
Не отступаясь от ее загадок
Так я с землею заключил союз
На жизнь и смерть.
Гелъдерлт «Смерть Эмпедокла»
ВВЕДЕНИЕ
Есть преступления, вызванные страстью, и преступления, продиктованные бесстрастной логикой. Чтобы различить их, уголовный кодекс пользуется удобства ради таким понятием, как «предумышленность». Мы живем в эпоху мастерски выполненных преступных замыслов. Современные правонарушители давно уже не те наивные дети, которые ожидают, что их, любя, простят. Это люди зрелого ума, и у них есть неопровержимое оправдание - философия, которая может служить чему угодно и способна даже превратить убийцу в судью. Хитклиф, герой «Грозового перевала», готов уничтожить весь шар земной, лишь бы только обладать Кэтти, но ему бы и в голову не пришло заявить, что такая гекатомба разумна и может быть оправдана философской системой. Хитклиф способен на убийство, но дальше этого его мысль не идет. В его преступной решимости чувствуется сила страсти и характера. Поскольку такая любовная одержимость - явление редкое, убийство остается исключением из правила. Это что-то вроде взлома квартиры. Но с того момента, когда по слабохарактерности преступник прибегает к помощи философской доктрины, с того момента, когда преступление само себя обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, разрастается так же, как сама мысль. Раньше злодеяние было одиноким, словно крик, а теперь оно столь же универсально, как наука. Еще вчера преследуемое по суду, сегодня преступление стало законом.
Пусть никого не возмущает сказанное. Цель моего эссе - осмыслить реальность логического преступления, характерного для нашего времени, и тщательно изучить способы его оправдания. Это попытка понять нашу современность. Некоторые, вероятно, считают, что эпоха, за полстолетия обездолившая, поработившая или уничтожившая семьдесят миллионов человек, должна быть прежде всего осуждена, и только осуждена. Но надо еще и понять суть ее вины. В былые наивные времена, когда тиран ради вящей славы сметал с лица земли целые города, когда прикованный к победной колеснице невольник брел по чужим праздничным улицам, когда пленника бросали на съедение хищникам, чтобы потешить толпу, тогда перед фактом столь простодушных злодейств совесть могла оставаться спокойной, а мысль ясной. Но загоны для рабов, осененные знаменем свободы, массовые уничтожения людей, оправдываемые любовью к человеку или тягой к сверхчеловеческому, - такие явления в определенном смысле просто обезоруживают моральный суд. В новые времена, когда злой умысел рядится в одеяния невинности, по странному извращению, характерному для нашей эпохи, именно невинность вынуждена оправдываться. В своем эссе я хочу принять этот необычный вызов, с тем, чтобы как можно глубже понять его.
Необходимо разобраться, способна ли невинность отказаться от убийства. Мы можем действовать только в свою эпоху среди окружающих нас людей. Мы ничего не сумеем сделать, если не будем знать, имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство. Поскольку сегодня любой поступок пролагает путь к прямому или косвенному убийству, мы не можем действовать, не уяснив прежде, должны ли мы обрекать людей на смерть, и если должны, то во имя чего.
Нам важно пока не столько докопаться до сути вещей, сколько выяснить, как вести себя в мире - таком, каков он есть. Во времена отрицания небесполезно определить свое отношение к проблеме самоубийства. Во времена идеологий необходимо разобраться, каково наше отношение к убийству. Если для него находятся оправдания, значит, наша эпоха и мы сами вполне соответствуем друг другу. Если же таких оправданий нет, это означает, что мы пребываем в безумии, и у нас есть только один выход» либо соответствовать эпохе убийства, либо отвернуться от нее. Во всяком случае, нужно четко ответить на вопрос, поставленный перед нами нашим кровавым многоголосым столетием. Ведь мы и сами под вопросом. Тридцать лет тому назад, прежде чем решиться на убийство, люди отрицали многое, отрицали даже самих себя посредством самоубийства. Бог плутует в игре, а вместе с ним и все смертные, включая меня самого, поэтому не лучше ли мне умереть? Проблемой было самоубийство. Сегодня идеология отрицает только чужих, объявляя их нечестными игроками. Теперь убивают не себя, а других. И каждое утро увешанные медалями душегубы входят в камеры-одиночки: проблемой стало убийство.
Эти два рассуждения связаны друг с другом. Вернее, они связывают нас, да так крепко, что мы уже не можем сами выбирать себе проблемы. Это они, проблемы, поочередно выбирают нас. Примем же нашу избранность. Перед лицом бунта и убийства я в этом эссе хочу продолжить размышления, начальными темами которых были самоубийство и абсурд.
Но пока что это размышление подвело нас только к одному понятию - понятию абсурда. Оно, в свою очередь, не дает нам ничего, кроме противоречий во всем, что касается проблемы убийства. Когда пытаешься извлечь из чувства абсурда правила Действия, обнаруживается, что вследствие этого чувства убийство воспринимается в лучшем случае безразлично и, следовательно, становится допустимым. Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать никакую ценность, все дозволено и ничто не имеет значения. Нет доводов «за», нет доводов «против», убийцу невозможно ни осудить, ни оправдать. Что сжигать людей в газовых печах, что посвящать свою жизнь уходу за прокаженными - разницы никакой. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза.
И вот приходишь к решению вообще не действовать, а это означает, что ты, во всяком случае, миришься с убийством, которое совершено другим. Тебе же остается разве что сокрушаться о несовершенстве человеческой природы. А почему бы еще не подменить действие трагическим дилетантизмом? В таком случае человеческая жизнь оказывается ставкой в игре. Можно, наконец, замыслить действие не совсем бесцельное. И тогда, за неимением высшей ценности, направляющей действие, оно будет ориентировано на непосредственный результат. Если нет ни истинного, ни ложного, ни хорошего, ни дурного, правилом становится максимальная эффективность самого действия, то есть сила. И тогда надо разделять людей не на праведников и грешников, а на господ и рабов. Так что, с какой стороны ни смотреть, дух отрицания и нигилизма отводит убийству почетное место.
Следовательно, если мы хотим принять концепцию абсурда, мы должны быть готовы убивать, повинуясь логике, а не совести, которая будет представляться нам чем-то иллюзорным. Разумеется, для убийства необходимы некоторые наклонности. Впрочем, как показывает опыт, не такие уж ярко выраженные. К тому же, как это обычно и бывает, всегда есть возможность совершить убийство чужими руками. Все можно было бы уладить во имя логики, если бы с логикой здесь и вправду считались.
Но логике нет места в концепции, которая поочередно представляет убийство допустимым и недопустимым. Ибо, признав убийство этически нейтральным, анализ абсурда приводит в конце концов к его осуждению, и это самый важный вывод. Последним итогом рассуждения об абсурде является отказ от самоубийства и участие в отчаянном противостоянии вопрошающего человека и безмолвной вселенной. Самоубийство означало бы конец этого противостояния, и потому рассуждение об абсурде видит в самоубийстве отрицание собственных предпосылок. Ведь самоубийство - это бегство от мира или избавление от него. А согласно этому рассуждению жизнь - единственное подлинно необходимое благо, которое только и делает возможным такое противостояние. Вне человеческого существования пари абсурда немыслимо: в этом случае отсутствует одна из двух необходимых для спора сторон. Заявить, что жизнь абсурдна, может только живой, обладающий сознанием человек. Каким же образом, не делая значительных уступок стремлению к интеллектуальному комфорту, сохранить для себя единственное в своем роде преимущество подобного рассуждения? Признав, что жизнь, будучи благом для тебя, является таковым и для других. Невозможно оправдать убийство, если отказываешь в оправдании самоубийству. Ум, усвоивший идею абсурда, безоговорочно допускает фатальное убийство, но не принимает убийства рассудочного. С точки зрения противостояния человека и мира убийство и самоубийство равнозначны. Принимая или отвергая одно, неизбежно принимаешь или отвергаешь другое.
Бунтующий человек
ЖАНУ ГРЕНЬЕ
И сердце
Открыто отдалось суровой
Страдающей земле, и часто ночью
В священном мраке клялся я тебе
Любить ее бестрепетно до смерти,
Не отступаясь от ее загадок
Так я с землею заключил союз
На жизнь и смерть.
Гелъдерлт «Смерть Эмпедокла»
ВВЕДЕНИЕ
Есть преступления, вызванные страстью, и преступления, продиктованные бесстрастной логикой. Чтобы различить их, уголовный кодекс пользуется удобства ради таким понятием, как «предумышленность». Мы живем в эпоху мастерски выполненных преступных замыслов. Современные правонарушители давно уже не те наивные дети, которые ожидают, что их, любя, простят. Это люди зрелого ума, и у них есть неопровержимое оправдание - философия, которая может служить чему угодно и способна даже превратить убийцу в судью. Хитклиф, герой «Грозового перевала», готов уничтожить весь шар земной, лишь бы только обладать Кэтти, но ему бы и в голову не пришло заявить, что такая гекатомба разумна и может быть оправдана философской системой. Хитклиф способен на убийство, но дальше этого его мысль не идет. В его преступной решимости чувствуется сила страсти и характера. Поскольку такая любовная одержимость - явление редкое, убийство остается исключением из правила. Это что-то вроде взлома квартиры. Но с того момента, когда по слабохарактерности преступник прибегает к помощи философской доктрины, с того момента, когда преступление само себя обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, разрастается так же, как сама мысль. Раньше злодеяние было одиноким, словно крик, а теперь оно столь же универсально, как наука. Еще вчера преследуемое по суду, сегодня преступление стало законом.
Пусть никого не возмущает сказанное. Цель моего эссе - осмыслить реальность логического преступления, характерного для нашего времени, и тщательно изучить способы его оправдания. Это попытка понять нашу современность. Некоторые, вероятно, считают, что эпоха, за полстолетия обездолившая, поработившая или уничтожившая семьдесят миллионов человек, должна быть прежде всего осуждена, и только осуждена. Но надо еще и понять суть ее вины. В былые наивные времена, когда тиран ради вящей славы сметал с лица земли целые города, когда прикованный к победной колеснице невольник брел по чужим праздничным улицам, когда пленника бросали на съедение хищникам, чтобы потешить толпу, тогда перед фактом столь простодушных злодейств совесть могла оставаться спокойной, а мысль ясной. Но загоны для рабов, осененные знаменем свободы, массовые уничтожения людей, оправдываемые любовью к человеку или тягой к сверхчеловеческому, - такие явления в определенном смысле просто обезоруживают моральный суд. В новые времена, когда злой умысел рядится в одеяния невинности, по странному извращению, характерному для нашей эпохи, именно невинность вынуждена оправдываться. В своем эссе я хочу принять этот необычный вызов, с тем, чтобы как можно глубже понять его.
Необходимо разобраться, способна ли невинность отказаться от убийства. Мы можем действовать только в свою эпоху среди окружающих нас людей. Мы ничего не сумеем сделать, если не будем знать, имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство. Поскольку сегодня любой поступок пролагает путь к прямому или косвенному убийству, мы не можем действовать, не уяснив прежде, должны ли мы обрекать людей на смерть, и если должны, то во имя чего.
Нам важно пока не столько докопаться до сути вещей, сколько выяснить, как вести себя в мире - таком, каков он есть. Во времена отрицания небесполезно определить свое отношение к проблеме самоубийства. Во времена идеологий необходимо разобраться, каково наше отношение к убийству. Если для него находятся оправдания, значит, наша эпоха и мы сами вполне соответствуем друг другу. Если же таких оправданий нет, это означает, что мы пребываем в безумии, и у нас есть только один выход» либо соответствовать эпохе убийства, либо отвернуться от нее. Во всяком случае, нужно четко ответить на вопрос, поставленный перед нами нашим кровавым многоголосым столетием. Ведь мы и сами под вопросом. Тридцать лет тому назад, прежде чем решиться на убийство, люди отрицали многое, отрицали даже самих себя посредством самоубийства. Бог плутует в игре, а вместе с ним и все смертные, включая меня самого, поэтому не лучше ли мне умереть? Проблемой было самоубийство. Сегодня идеология отрицает только чужих, объявляя их нечестными игроками. Теперь убивают не себя, а других. И каждое утро увешанные медалями душегубы входят в камеры-одиночки: проблемой стало убийство.
Эти два рассуждения связаны друг с другом. Вернее, они связывают нас, да так крепко, что мы уже не можем сами выбирать себе проблемы. Это они, проблемы, поочередно выбирают нас. Примем же нашу избранность. Перед лицом бунта и убийства я в этом эссе хочу продолжить размышления, начальными темами которых были самоубийство и абсурд.
Но пока что это размышление подвело нас только к одному понятию - понятию абсурда. Оно, в свою очередь, не дает нам ничего, кроме противоречий во всем, что касается проблемы убийства. Когда пытаешься извлечь из чувства абсурда правила Действия, обнаруживается, что вследствие этого чувства убийство воспринимается в лучшем случае безразлично и, следовательно, становится допустимым. Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать никакую ценность, все дозволено и ничто не имеет значения. Нет доводов «за», нет доводов «против», убийцу невозможно ни осудить, ни оправдать. Что сжигать людей в газовых печах, что посвящать свою жизнь уходу за прокаженными - разницы никакой. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза.
И вот приходишь к решению вообще не действовать, а это означает, что ты, во всяком случае, миришься с убийством, которое совершено другим. Тебе же остается разве что сокрушаться о несовершенстве человеческой природы. А почему бы еще не подменить действие трагическим дилетантизмом? В таком случае человеческая жизнь оказывается ставкой в игре. Можно, наконец, замыслить действие не совсем бесцельное. И тогда, за неимением высшей ценности, направляющей действие, оно будет ориентировано на непосредственный результат. Если нет ни истинного, ни ложного, ни хорошего, ни дурного, правилом становится максимальная эффективность самого действия, то есть сила. И тогда надо разделять людей не на праведников и грешников, а на господ и рабов. Так что, с какой стороны ни смотреть, дух отрицания и нигилизма отводит убийству почетное место.
Следовательно, если мы хотим принять концепцию абсурда, мы должны быть готовы убивать, повинуясь логике, а не совести, которая будет представляться нам чем-то иллюзорным. Разумеется, для убийства необходимы некоторые наклонности. Впрочем, как показывает опыт, не такие уж ярко выраженные. К тому же, как это обычно и бывает, всегда есть возможность совершить убийство чужими руками. Все можно было бы уладить во имя логики, если бы с логикой здесь и вправду считались.
Но логике нет места в концепции, которая поочередно представляет убийство допустимым и недопустимым. Ибо, признав убийство этически нейтральным, анализ абсурда приводит в конце концов к его осуждению, и это самый важный вывод. Последним итогом рассуждения об абсурде является отказ от самоубийства и участие в отчаянном противостоянии вопрошающего человека и безмолвной вселенной. Самоубийство означало бы конец этого противостояния, и потому рассуждение об абсурде видит в самоубийстве отрицание собственных предпосылок. Ведь самоубийство - это бегство от мира или избавление от него. А согласно этому рассуждению жизнь - единственное подлинно необходимое благо, которое только и делает возможным такое противостояние. Вне человеческого существования пари абсурда немыслимо: в этом случае отсутствует одна из двух необходимых для спора сторон. Заявить, что жизнь абсурдна, может только живой, обладающий сознанием человек. Каким же образом, не делая значительных уступок стремлению к интеллектуальному комфорту, сохранить для себя единственное в своем роде преимущество подобного рассуждения? Признав, что жизнь, будучи благом для тебя, является таковым и для других. Невозможно оправдать убийство, если отказываешь в оправдании самоубийству. Ум, усвоивший идею абсурда, безоговорочно допускает фатальное убийство, но не принимает убийства рассудочного. С точки зрения противостояния человека и мира убийство и самоубийство равнозначны. Принимая или отвергая одно, неизбежно принимаешь или отвергаешь другое.
Поэтому абсолютный нигилизм, считающий самоубийство вполне законным актом, с еще большей легкостью признает законность убийства по логике. Наше столетие охотно допускает, что убийство может быть оправдано, и причина этого кроется в безразличии к жизни, свойственном нигилизму. Конечно, были эпохи, когда жажда жизни достигала такой силы, что выливалась и в злодеяния. Но эти эксцессы были подобны ожогу нестерпимого наслаждения, у них нет ничего общего с тем монотонным порядком, который устанавливает принудительная логика, все и всех укладывающая в свое прокрустово ложе. Подобная логика выпестовала понимание самоубийства как ценности, доходя даже до таких крайних следствий, как узаконенное право лишить человека жизни. Эта логика достигает своей кульминации в коллективном самоубийстве. Гитлеровский апокалипсис 1945 г. - самый яркий тому пример. Уничтожить самих себя было слишком мало для безумцев, готовивших в своем логове настоящий апофеоз смерти. Суть состояла не в том, чтобы уничтожить самих себя, а в том, чтобы увлечь с собой в могилу целый мир. В определенном смысле человек, обрекающий на смерть лишь себя, отрицает все ценности, кроме одной - права на жизнь, которым обладают другие люди. Доказательством этому служит факт, что самоубийца никогда не губит ближнего, не использует ту гибельную силу и страшную свободу, которые он обретает, решившись на смерть. Всякое самоубийство в одиночку, если только оно совершается не в отместку, по-своему великодушно или же исполнено презрения. Но ведь презирают во имя чего-то. Если мир самоубийце безразличен, значит, он представляет себе, что для него небезразлично или же могло бы быть таковым. Самоубийца думает, что он все уничтожает и все уносит с собой в небытие, но сама его смерть утверждает некую ценность, которая, быть может, заслуживает, чтобы ради нее жили. Самоубийства недостаточно для абсолютного отрицания. Последнее требует абсолютного уничтожения, уничтожения и себя, и других. Во всяком случае, жить абсолютным отрицанием можно только при условии, что всячески стремишься к этому искусительному пределу. Убийство и самоубийство представляют две стороны одной медали - несчастного сознания, предпочитающего претерпеванию человеческого удела темный восторг, в котором сливаются, уничтожаясь, земля и небо.
Альбер Камю "Бунтующий человек" / Пер. с фр.; Общ. ред., сост. предисл. и примеч. А. Руткевича - М. Терра - Книжный клуб; Республика, 1999 ISBN 5-300-02665-4 ISBN 5-250-02698-2
Альбер Камю Бунтующий человек 1
ВВЕДЕНИЕ 3
I ЧЕЛОВЕК БУНТУЮЩИЙ 6
II МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ БУНТ 9
СЫНЫ КАИНА 10
АБСОЛЮТНОЕ ОТРИЦАНИЕ 12
ЛИТЕРАТОР 13
МЯТЕЖНЫЕ ДЕНДИ 16
ОТКАЗ ОТ СПАСЕНИЯ 18
АБСОЛЮТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 21
ЕДИНСТВЕННЫЙ 21
НИЦШЕ И НИГИЛИЗМ 22
БУНТУЮЩАЯ ПОЭЗИЯ 27
ЛОТРЕАМОН И ЗАУРЯДНОСТЬ 27
СЮРРЕАЛИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ 29
НИГИЛИЗМ И ИСТОРИЯ 32
III ИСТОРИЧЕСКИЙ БУНТ 34
ЦАРЕУБИЙСТВО 36
НОВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 36
КАЗНЬ КОРОЛЯ 37
РЕЛИГИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ 38
БОГОУБИЙСТВА 42
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 47
ОТКАЗ ОТ ДОБРОДЕТЕЛИ 48
ТРОЕ ОДЕРЖИМЫХ 49
РАЗБОРЧИВЫЕ УБИЙЦЫ 53
ШИГАЛЕВЩИНА 55
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕРРОР 56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И РАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕРРОР 60
БУРЖУАЗНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА 60
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА 63
КРАХ ПРОРОЧЕСТВ 67
ПОСЛЕДНЕЕ ЦАРСТВО 72
ТОТАЛЬНОСТЬ И СУДИЛИЩА 74
БУНТ И РЕВОЛЮЦИЯ 78
IV БУНТ И ИСКУССТВО 81
РОМАН И БУНТ 82
БУНТ И СТИЛЬ 86
ТВОРЧЕСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ 87
V ПОЛУДЕННАЯ МЫСЛЬ 89
БУНТ И УБИЙСТВО 89
НИГИЛИСТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО 90
ИСТОРИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО 91
МЕРА И БЕЗМЕРНОСТЬ 93
ПОЛУДЕННАЯ МЫСЛЬ 95
ПО ТУ СТОРОНУ НИГИЛИЗМА 96
БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК 98
Введение 98
Человек бунтующий 98
Метафизический бунт 99
Исторический бунт 103
Бунт и искусство 109
Полуденная мысль 109
ЖАНУ ГРЕНЬЕ
И сердце Открыто отдалось суровой Страдающей земле, и часто ночью В священном мраке клялся я тебе Любить ее бестрепетно до смерти, Не отступаясь от ее загадок Так я с землею заключил союз На жизнь и смерть.
Гелъдерлт "Смерть Эмпедокла"
Введение
Есть преступления, вызванные страстью, и преступления, продиктованные бесстрастной логикой. Чтобы различить их, уголовный кодекс пользуется удобства ради таким понятием, как "предумышленность". Мы живем в эпоху мастерски выполненных преступных замыслов. Современные правонарушители давно уже не те наивные дети, которые ожидают, что их, любя, простят. Это люди зрелого ума, и у них есть неопровержимое оправдание - философия, которая может служить чему угодно и способна даже превратить убийцу в судью. Хитклиф, герой "Грозового перевала"* , готов уничтожить весь шар земной, лишь бы только обладать Кэтти, но ему бы и в голову не пришло заявить, что такая гекатомба разумна и может быть оправдана философской системой. Хитклиф способен на убийство, но дальше этого его мысль не идет. В его преступной решимости чувствуется сила страсти и характера. Поскольку такая любовная одержимость - явление редкое, убийство остается исключением из правила. Это что-то вроде взлома квартиры. Но с того момента, когда по слабохарактерности преступник прибегает к помощи философской доктрины, с того момента, когда преступление само себя обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, разрастается так же, как сама мысль. Раньше злодеяние было одиноким, словно крик, а теперь оно столь же универсально, как наука. Еще вчера преследуемое по суду, сегодня преступление стало законом.
Пусть никого не возмущает сказанное. Цель моего эссе - осмыслить реальность логического преступления, характерного для нашего времени, и тщательно изучить способы его оправдания. Это попытка понять нашу современность. Некоторые, вероятно, считают, что эпоха, за полстолетия обездолившая, поработившая или уничтожившая семьдесят миллионов человек, должна быть прежде всего осуждена, и только осуждена. Но надо еще и понять суть ее вины. В былые наивные времена, когда тиран ради вящей славы сметал с лица земли целые города, когда прикованный к победной колеснице невольник брел по чужим праздничным улицам, когда пленника бросали на съедение хищникам, чтобы потешить толпу, тогда перед фактом столь простодушных злодейств совесть могла оставаться спокойной, а мысль ясной. Но загоны для рабов, осененные знаменем свободы, массовые уничтожения людей, оправдываемые любовью к человеку или тягой к сверхчеловеческому, - такие явления в определенном смысле просто обезоруживают моральный суд. В новые времена, когда злой умысел рядится в одеяния невинности, по странному извращению, характерному для нашей эпохи, именно невинность вынуждена оправдываться. В своем эссе я хочу принять этот необычный вызов, с тем чтобы как можно глубже понять его.
Необходимо разобраться, способна ли невинность отказаться от убийства. Мы можем действовать только в свою эпоху среди окружающих нас людей. Мы ничего не сумеем сделать, если не будем знать, имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство. Поскольку сегодня любой поступок пролагает путь к прямому или косвенному убийству, мы не можем действовать, не уяснив прежде, должны ли мы обрекать людей на смерть, и если должны, то во имя чего.
Нам важно пока не столько докопаться до сути вещей, сколько выяснить, как вести себя в мире - таком, каков он есть. Во времена отрицания небесполезно определить свое отношение к проблеме самоубийства. Во времена идеологий необходимо разобраться, каково наше отношение к убийству. Если для него находятся оправдания, значит, наша эпоха и мы сами вполне соответствуем друг другу. Если же таких оправданий нет, это означает, что мы пребываем в безумии, и у нас есть только один выход" либо соответствовать эпохе убийства, либо отвернуться от нее. Во всяком случае, нужно четко ответить на вопрос, поставленный перед нами нашим кровавым многоголосым столетием. Ведь мы и сами под вопросом. Тридцать лет тому назад, прежде чем решиться на убийство, люди отрицали многое, отрицали даже самих себя посредством самоубийства. Бог плутует в игре, а вместе с ним и все смертные, включая меня самого, поэтому не лучше ли мне умереть? Проблемой было самоубийство. Сегодня идеология отрицает только чужих, объявляя их нечестными игроками. Теперь убивают не себя, а других. И каждое утро увешанные медалями душегубы входят в камеры-одиночки: проблемой стало убийство.
Эти два рассуждения связаны друг с другом. Вернее, они связывают нас, да так крепко, что мы уже не можем сами выбирать себе проблемы. Это они, проблемы, поочередно выбирают нас. Примем же нашу избранность. Перед лицом бунта и убийства я в этом эссе хочу продолжить размышления, начальными темами которых были самоубийство и абсурд.
Но пока что это размышление подвело нас только к одному понятию - понятию абсурда. Оно, в свою очередь, не дает нам ничего, кроме противоречий во всем, что касается проблемы убийства. Когда пытаешься извлечь из чувства абсурда правила Действия, обнаруживается, что вследствие этого чувства убийство воспринимается в лучшем случае безразлично и, следовательно, становится допустимым. Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать никакую ценность, все дозволено и ничто не имеет значения. Нет доводов "за", нет доводов "против", убийцу невозможно ни осудить, ни оправдать. Что сжигать людей в газовых печах, что посвящать свою жизнь уходу за прокаженными - разницы никакой. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза.
И вот приходишь к решению вообще не действовать, а это означает, что ты, во всяком случае, миришься с убийством, которое совершено другим. Тебе же остается разве что сокрушаться о несовершенстве человеческой природы. А почему бы еще не подменить действие трагическим дилетантизмом? В таком случае человеческая жизнь оказывается ставкой в игре. Можно, наконец, замыслить действие не совсем бесцельное. И тогда, за неимением высшей ценности, направляющей действие, оно будет ориентировано на непосредственный результат. Если нет ни истинного, ни ложного, ни хорошего, ни дурного, правилом становится максимальная эффективность самого действия, то есть сила. И тогда надо разделять людей не на праведников и грешников, а на господ и рабов. Так что, с какой стороны ни смотреть, дух отрицания и нигилизма отводит убийству почетное место.
Следовательно, если мы хотим принять концепцию абсурда, мы должны быть готовы убивать, повинуясь логике, а не совести, которая будет представляться нам чем-то иллюзорным. Разумеется, для убийства необходимы некоторые наклонности. Впрочем, как показывает опыт, не такие уж ярко выраженные. К тому же, как это обычно и бывает, всегда есть возможность совершить убийство чужими руками. Все можно было бы уладить во имя логики, если бы с логикой здесь и вправду считались.
Но логике нет места в концепции, которая поочередно представляет убийство допустимым и недопустимым. Ибо, признав убийство этически нейтральным, анализ абсурда приводит в конце концов к его осуждению, и это самый важный вывод. Последним итогом рассуждения об абсурде является отказ от самоубийства и участие в отчаянном противостоянии вопрошающего человека и безмолвной вселенной 1 . Самоубийство означало бы конец этого противостояния, и потому рассуждение об абсурде видит в самоубийстве отрицание собственных предпосылок. Ведь самоубийство - это бегство от мира или избавление от него. А согласно этому рассуждению жизнь - единственное подлинно необходимое благо, которое только и делает возможным такое противостояние. Вне человеческого существования пари абсурда немыслимо: в этом случае отсутствует одна из двух необходимых для спора сторон. Заявить, что жизнь абсурдна, может только живой, обладающий сознанием человек. Каким же образом, не делая значительных уступок стремлению к интеллектуальному комфорту, сохранить для себя единственное в своем роде преимущество подобного рассуждения? Признав, что жизнь, будучи благом для тебя, является таковым и для других. Невозможно оправдать убийство, если отказываешь в оправдании самоубийству. Ум, усвоивший идею абсурда, безоговорочно допускает фатальное убийство, но не принимает убийства рассудочного. С точки зрения противостояния человека и мира убийство и самоубийство равнозначны. Принимая или отвергая одно, неизбежно принимаешь или отвергаешь другое.
Поэтому абсолютный нигилизм, считающий самоубийство вполне законным актом, с еще большей легкостью признает законность убийства по логике. Наше столетие охотно допускает, что убийство может быть оправдано, и причина этого кроется в безразличии к жизни, свойственном нигилизму. Конечно, были эпохи, когда жажда жизни достигала такой силы, что выливалась и в злодеяния. Но эти эксцессы были подобны ожогу нестерпимого наслаждения, у них нет ничего общего с тем монотонным порядком, который устанавливает принудительная логика, все и всех укладывающая в свое прокрустово ложе. Подобная логика выпестовала понимание самоубийства как ценности, доходя даже до таких крайних следствий, как узаконенное право лишить человека жизни. Эта логика достигает своей кульминации в коллективном самоубийстве. Гитлеровский апокалипсис 1945 г. - самый яркий тому пример. Уничтожить самих себя было слишком мало для безумцев, готовивших в своем логове настоящий апофеоз смерти. Суть состояла не в том, чтобы уничтожить самих себя, а в том, чтобы увлечь с собой в могилу целый мир. В определенном смысле человек, обрекающий на смерть лишь себя, отрицает все ценности, кроме одной - права на жизнь, которым обладают другие люди. Доказательством этому служит факт, что самоубийца никогда не губит ближнего, не использует ту гибельную силу и страшную свободу, которые он обретает, решившись на смерть. Всякое самоубийство в одиночку, если только оно совершается не в отместку, по-своему великодушно или же исполнено презрения. Но ведь презирают во имя чего-то. Если мир самоубийце безразличен, значит, он представляет себе, что для него небезразлично или же могло бы быть таковым. Самоубийца думает, что он все уничтожает и все уносит с собой в небытие, но сама его смерть утверждает некую ценность, которая, быть может, заслуживает, чтобы ради нее жили. Самоубийства недостаточно для абсолютного отрицания. Последнее требует абсолютного уничтожения, уничтожения и себя, и других. Во всяком случае, жить абсолютным отрицанием можно только при условии, что всячески стремишься к этому искусительному пределу. Убийство и самоубийство представляют две стороны одной медали - несчастного сознания, предпочитающего претерпеванию человеческого удела темный восторг, в котором сливаются, уничтожаясь, земля и небо.
Точно так же, если отрицаешь доводы в пользу самоубийства. не найдешь их и в пользу убийства. Нельзя быть нигилистом наполовину. Рассуждение об абсурде не может одновременно сохранять жизнь того, кто рассуждает, и допускать принесение в жертву других. Если мы признали невозможность абсолютного отрицания - а жить - значит, как бы то ни было, признавать эту невозможность, - первое, что не подлежит отрицанию, это жизнь ближнего. Таким образом, ход рассуждений, приведший к мысли о безразличности убийства, снимает затем доводы в его пользу, и мы вновь оказываемся в той противоречивой ситуации, из которой пытались найти выход. На практике подобное рассуждение убеждает нас одновременно, что убивать можно и что убивать нельзя. Оно приводит нас к противоречию, не предоставляя ни одного аргумента против убийства и не позволяя узаконить его. Мы угрожаем и сами находимся под угрозой; мы во власти охваченной лихорадочным нигилизмом эпохи и в то же время в одиночестве; с оружием в руках и со сдавленным горлом.
Но это основное противоречие влечет за собой множество других, если мы стремимся устоять среди абсурда, не подозревая при этом, что абсурд - это жизненный переход, отправная точка, экзистенциальный эквивалент методического сомнения Декарта Абсурд сам по себе есть противоречие.
Он противоречив по своему содержанию, поскольку, стремясь поддержать жизнь, отказывается от ценностных суждений, а ведь жизнь, как таковая, уже есть ценностное суждение. Дышать - значит судить. Разумеется, ошибочно утверждать, что жизнь есть постоянный выбор. Однако невозможно вообразить жизнь, лишенную всякого выбора. По этой простой причине воплощенная в жизнь концепция абсурда немыслима. Столь же немыслима она и в своем выражении. Вся философия бессмысленности жива противоречивостью того факта, что она себя выражает. Тем самым она вносит некий минимум связности в бессвязность; она вводит последовательность в то, что, если верить ей, не имеет последовательности. Сама речь связует. Единственно логичной позицией, основанной на бессмысленности, было бы молчание, если бы молчание, в свою очередь, ничего не означало. Совершенный абсурд. Если он говорит, это значит, что он любуется собой или, как мы увидим в дальнейшем, считает себя переходным состоянием. Это самолюбование, самопочитание ясно показывает глубинную двусмысленность абсурдной позиции. Абсурд, который хочет показать человека в его одиночестве, в каком-то смысле заставляет его жить перед зеркалом. Первоначальный душевный надрыв рискует, таким образом, стать комфортабельным. Рана, растравляемая с таким усердием, в конце концов может стать источником наслаждения.
Мы не испытывали недостатка в великих авантюристах абсурда. Но в конечном счете их величие измеряется тем, что они отказались от любования абсурдом, сохраняя лишь его требования. Они разрушают ради большего, а не ради меньшего. "Мои враги, - говорит Ницше, - те, кто хочет ниспровергать, а не творить самих себя". Сам он ниспровергал, но с тем, чтобы попытаться творить. Он прославляет честность, бичуя "свинорылых" жуиров. Рассуждение об абсурде противопоставляет самолюбованию отказ от него. Оно провозглашает отказ от развлечений и приходит к добровольному самоограничению, к молчанию, к странной аскезе бунта. Рембо, воспевающий "хорошенькое преступленьице, мяукающее в уличной грязи", бежит в Харар, чтобы жаловаться только на бессемейную жизнь. Жизнь была для него "фарсом, в котором играют все без исключения". Но вот что выкрикивает он сестре в смертный час: "Я буду гнить в земле, а ты, ты будешь жить и наслаждаться солнцем!"
Итак, абсурд в качестве жизненного правила противоречив. Что же удивительного в том, что он не дает нам тех ценностей, которые узаконили бы для нас убийство? Впрочем, невозможно обосновать позицию, исходя из какой-либо особой эмоции. Чувство абсурда - это такое же чувство, как и остальные. Тот факт, что в период между двумя войнами чувство абсурда окрасило собой столько мыслей и поступков, доказывает только его силу и его законность. Но интенсивность чувства еще не означает его всеобщего характера. Заблуждение целой эпохи заключалось в том, что она открывала или мнила, будто открывает, всеобщие правила поведения, основываясь на чувстве отчаяния, стремившемся себя преодолеть. Как большие муки, так и большие радости равно могут послужить началом размышления; они движут им. Но невозможно вновь и вновь испытывать эти чувства и поддерживать их во время всего рассуждения. Следовательно, если есть резон учитывать восприимчивость к абсурду, ставить диагноз обнаруженной у себя и у других болезни, то в такой восприимчивости можно усматривать лишь отправную точку, критику, основанную на жизненном опыте, экзистенциальный эквивалент философского сомнения. Это означает, что надо покончить с игрой зеркальных отражений и присоединиться к неудержимому самопреодолению абсурда.
Когда зеркала разбиты, не остается ничего, что помогло бы нам дать ответы на поставленные эпохой вопросы. Абсурд как методическое сомнение - это чистая доска. Он оставляет нас в тупике. Вместе с тем, будучи сомнением, он способен, обращаясь к собственной сути, направлять нас на новые поиски. Рассуждение тогда продолжается уже известным образом. Я кричу о том, что ни во что не верю и что все бессмысленно, но я не могу сомневаться в собственном крике и должен верить хотя бы в собственный протест. Первая и единственная очевидность, которая дается мне таким образом в опыте абсурда, - это бунт Лишенный всякого знания, вынужденный убивать или мириться с убийством, я располагаю только этой очевидностью, усугубляемой моим внутренним ладом. Бунт порождается осознанием увиденной бессмысленности, осознанием непонятного и несправедливого удела человеческого. Однако слепой мятежный порыв требует порядка среди хаоса, жаждет цельности в самой сердцевине того, что ускользает и исчезает. Бунт взывает, бунт желает и требует, чтобы скандал прекратился и наконец-то запечатлелись слова, которые безостановочно пишутся вилами по воде Цель бунта - преображение. Но преображать - значит действовать, а действие уже завтра может означать убийство, между тем бунт не знает, законно оно или нет. Бунт порождает как раз такие действия, которые он должен узаконить. Следовательно, необходимо, чтобы бунт искал свои основания в самом себе, поскольку ни в чем ином он их найти не может. Бунт должен сам себя исследовать, чтобы знать, как ему правильно действовать
Два столетия бунта, метафизического или исторического, дают нам возможность поразмыслить над ними. Только историк способен рассказать в деталях о сменяющих друг друга доктринах и социальных движениях. Но можно, по крайней мере, попытаться найти в них какую-то путеводную нить. На последующих страницах будут проставлены лишь некоторые исторические вехи и предложена гипотеза, которая, впрочем, не в состоянии объяснить все и не является единственно возможной. Тем не менее она частично объясняет направленность нашего времени и почти полностью - его эксцессы. Рассматриваемая здесь необычайная история есть история европейской гордыни
Как бы там ни было, невозможно понять причины бунта, не исследуя его требования, его образа действий и его завоеваний В его делах, быть может, таится то правило действия, которое не смог открыть нам абсурд, по меньшей мере указание на право или долг убивать и, наконец, надежда на созидание Человек - единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть. Проблема в том, чтобы выяснить, не может ли такой отказ привести человека к уничтожению других и самого себя, должен ли всякий бунт завершаться оправданием всеобщего убийства или, напротив, не претендуя на невозможную безвинность, он может выявить суть рассудочной вины
1 См.: "Миф о Сизифе".